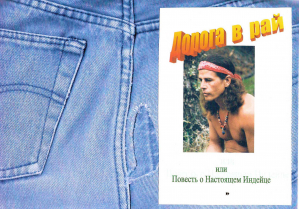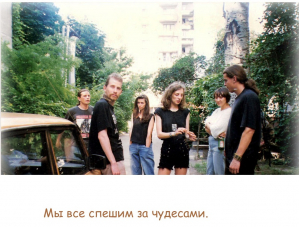Фил «Настоящий Индеец» - Дорога в рай, или Повесть о Настоящем Индейце
Из суфиев:
К тебе, которой каждый день молюсь,
без разрешенья я не прикоснусь.
Красавица подумала с досадой:
иль евнух ты, иль пидарас, клянусь.
Аррани,
XV век.
За базар не отвечаю, принципиально.
PHIL
1. Она сделала шаг
Выходим на трассу.
Ключ в зажигании, я уже захлопнул дверцу и пристегнулся, сумки утрамбованы в багажнике, рюкзачок Оли, гитара и мандолина на заднем сиденье, и я жду, водила должен уметь ждать пассажиров, я жду – когда же это произойдёт. В том, что это произойдёт, вроде можно уже не сомневаться… да я и не сомневаюсь, я не думаю ни о чём, я не в состоянии думать, я оцепенело жду – сейчас, ещё чуть-чуть, и затянутая в чёрное тоненькая Оля влезет наконец в распахнутую уже для неё заднюю дверцу, а Мыша, убедившись, что всё в порядке, займёт место штурмана, а я проверю, как они закрыли двери, и наконец поверну ключ.
Можно сказать «мы выходим на трассу», пересекая МКАД, а ещё резоннее – миновав Бутово и выйдя на автостраду. Тогда уже окончательно ясно, что путешествие начинается, машина прёт неизвестно к чему, и от приключений уже так или иначе не отвертеться. Плотные слои атмосферы пробили, и впереди открытый космос, океан. Это yes.
Но на самом деле в это время уже всё идёт по плану, чему быть, того не миновать. Машина уже приняла в себя твою дискету и поволокла по своему неумолимому лабиринту причин и следствий. Момент же, когда ты называешься груздем, развилка – когда ты собственными руками даёшь ключом первый контакт.
Мне всё не верилось, что всё это реально происходит со мной. Во-первых, та самая Оля, абсолютно недосягаемая для простых смертных, садится, во-вторых, в мою машину, и мы едем, в-третьих, в Крым. Ну, положим, «в-третьих» – дело обычное, не на коралловые всё же острова и даже не на Кипр едем. А что касается «во-вторых» - не было у меня никогда машины, вернее, была, но давно и чуть меньше года, «копейка» двадцатилетнего возраста, мне её подарил мой друг Мастер, чтобы я, раздолбав её окончательно, хоть чему-то научился, а главное – избавился от предрассудков типа «зелен виноград», свойственных тем, кто никогда и не пробовал этого наркотика.
Последние три года машины мешали мне грести снег и подметать двор. Уже три года я был московским дворником и почти всю жизнь – пешеходом. Три года я вёл себя хорошо, смиренно дожидался, когда же добрый волшебник подарит мне волшебную палочку.
«Во-первых» же казалось мне исключительно волшебством, а чем же ещё? Вдруг, ни с того, ни с сего – то, о чём я не смел и мечтать. О чём всё равно грезил всю жизнь. Неужели воистину услышаны мои молитвы? Реальное подтверждение того, что и в самом деле существует субстанция, которой интересно мои молитвы слушать.
Это уже сейчас я пытаюсь такими словами описать, что я тогда чувствовал, ни о чём не думая. Разве вспомнишь, что там, возможно, и думал лихорадочно? Или действительно ни о чём не думал, а только чувствовал?
Реальности, во всяком случае, ни фига не чувствовал. Тупо дожидался, когда можно будет положить руку на ключ и повернуть его. Напрочь улетев в мелькающие галюны о начинающемся будущем и не воспринимая настоящего.
Бывают ожидания в очереди или транспорте, бывают ожидания отпуска или окончания срока наказания.
А бывает ожидание в ментуре или, в юности, в военкомате, когда уже ясно, что вот сейчас отпустят, но разве можно быть в чём-то уверенным, когда имеешь дело с человеками? Суеверный страх верить, что всё будет ништяк, опыт того, что хоть в нардах, хоть в любой другой игре – стоит лишь расслабиться, развеселиться тому, что везёт, как везение сразу поворачивается жопой.
А впрочем, мрачняковые метафоры, лучше такая – целуетесь с герлой милуетесь, и вот уже почти перешли к делу, как вдруг она встаёт и говорит, что ей нужно сходить в ванную, а ты лежишь, как дурак, и чем заняться? Хоть дрочи – но глупо, если она вот-вот сейчас появится. Может, книжку пока почитать?
Этого не может быть – так мне казалось. То есть почему казалось – действительно было невероятным. Представьте себе – герла, своими песнями добившаяся несомненного успеха и признания во всесоюзном андеграунде. Аудиенции с нею ищут промоутеры, клипмэйкеры и кто там ещё сильные мира того? Ну не знаю, может, не так уж прямо и ищут, может, и сама она ищет, это понятно, но по-любому круг общения у неё не то что у меня – только дворники в Москве из знакомых, кроме Инки с Галинкой, да впрочем и они со мною дворниками стали. И из тысяч поклонников, посещающих концерты – должно же быть хоть несколько, имеющих смелость и силы искать сближения с божеством?
И вдруг откуда ни возьмись появляется никому неизвестный и, похоже, ничем не замечательный тип, знакомый только барабанщику Севе, да и то как-то там через кого-то. Вроде, немолод, а никто его не знает, и он никого не знает – кто он вообще такой?
Впрочем, может, ей потому и стало любопытно? Ведь если подумать, так даже как-то противоестественно, как это все в её среде всех знают. У них это необходимая норма, а часто и достаточная. При этом пикантность андеграундной тусовки, в отличие от официальной, в том, что все знают всех исключительно в границах незримого ордена. И я оказался единственным посторонним, случайно зашедшим прохожим, с которым она столкнулась в одном из переходов её безвыходного уже дворца.
Нет, правда, вот прикинуть трезво и просто – появляется хуй знает кто и говорит: поехали со мной в Крым. И она берёт и едет, не зная толком, с кем, куда, зачем.
Когда я в один из этих дней перед отъездом возил её по её делам, доказывал, что умею ездить, я на прощание спросил её телефон. Она дала его, но с некоторой заминкой и странной оговоркой:
- Давай записывай, но только… ты не будешь звонить просто так, с утра до вечера? Ты не маньяк? – и она тревожно оглядела меня: а не похож ли я на маньяка? Как бы одёрнуло её что-то: дать телефон – это уже серьёзно, включается антивирусная защита.
Вот – предполагала, значит, что я мог оказаться кем угодно, маньяком, Чикатилой. И всё же едет.
Доказывать, что ездить я умею, нужно было вот почему… Нет, не обойтись без краткого пересказа моего с нею знакомства. Позже я ещё расскажу в подробностях, а пока в двух словах.
Ровно год я дожидался, когда же выйдет так само собой, что Сева познакомит меня с Олей. Впервые это случилось за кулисами «Крылья советуют» в комнате для аппаратуры и звукооператоров. Сева, конечно, почувствовал, что я так и набиваюсь к нему в друзья с какой-то целью, только не мог понять, с какой, и предположил, что я хочу стать учеником звукооператора. Я ведь говорил ему, что получил соответствующее высшее образование, и хотя ясно, что совдеп диплом – одно, а практика – другое… в общем, он взял меня как бы стажёром на переоборудованную недавно площадку, куда их с Борей пригласили работать как заслуженных корифеев. Уже тогда для меня покатил этап «этого не может быть», начали сбываться детские мечты. Сперва я просто таскал тяжёлые коробки и под присмотром Севы втыкал штекера, но однажды Сева с Борей уехали с «Титаником» на фест женского вокала в Тулу, а я оказался один на один с аппаратом на триста тонн грина, да билетов продано тонн, наверно, на десять. Я за пультом, как за штурвалом «Боинга», и мне кажется чудом, что я соединил все эти таинственные и дорогие механизмы, и когда щёлкнул рубильником, ничего не взорвалось. Горят красные и зелёные огоньки, а внизу на сцене – Летов!!! (когда-то у меня был период, что я только им и жил, да и сейчас интересуюсь) и творится таинство, и я касаюсь пальцами клавиш этого волшебства.
Знамение – утром в тот самый день у нас в ДЭЗе собрали дворников как раз для учений гражданской обороны. Нам раздали по ведру и привели к надувному сооружению, которое наполняли водой из цистерны трое солдат под присмотром десятка важных начальников в военной форме и гражданских, очевидно, боссов из РЭУ, с которыми сразу залебезила начальница нашего ДЭЗа. Вот за что они получают свои зряплаты – за присутствие. Мы ожидали часа два, хорошо хоть я взял с собой новую книжку Лимонова, но здорово замёрз, день оказался неожиданно пасмурным, я думал – уже май, оказалось – ещё май. А потом все дворники по очереди подставляли свои вёдра под краник, торчащий из заполненной ёмкости. «Да не надо много наливать, - приговаривал один из начальников, - и так хватит, главное – всё работает». Подставил ведро, выплеснул на землю – и свободен.
«О-о-о, моя оборона», – орал вечером Летов. И я ему помогаю – я ЕМУ!
Таким образом, выбранный мною путь – к Оле – оказался наполнен тем, что всегда казалось мне не просто даже интересным, а волшебным, таинственным, святым, тем, с чем несопоставимы и несоизмеримы все зарабатывания и размножения; и – я не осознавал этого вслух, но в глубине души так и казалось – недостижимым. Примерно как недостижимо то, что происходит в порнофильмах. Фантастика, сказка.
Я продолжал жить той же жизнью, скудно зарабатывал, питался, ебался. Оглянитесь на свою жизнь – вспоминаются только отдельные вечера, или дни, или ночи, наполненные жизнью и светом пузырьки в длинной серой трубе прожитых лет. В тот год все эти пузырьки были для меня вехами на пути к Оле. Я не знал, окажется ли она интересной – я только заслушал одну кассету и дальше просто не сопротивлялся чему-то, влекущему меня от знамения к знаменью.
Так вот, как-то раз она пришла-таки в «Крылья советуют» к Севе с Борей, они собирались куда-то вместе идти. Сева представил меня, но я не знал, как влезть в их разговор. Внешне старался быть непринуждённым – просто оказались в одной комнате, у них своя беседа, а я делаю вид, что читаю «Московский комсомолец». Но внутри я ощущал себя, как мальчик из детского сада, оказавшийся в гостях в одной комнате с очень интересующей его девочкой из соседнего двора. И предполагаю, что хотя Оля меня, конечно, не заметила – да она всю жизнь только среди таких и вращалась, длинноволосых и в джинсне, - но душа её (или, по-материалистически, подсознание) не могла не почувствовать моего напряга.
Потом я сопровождал их некоторое время, потому что у меня было на косяк, а ребята были не прочь курнуть. И только это и удерживало меня, чтоб не убежать. Мне казалось, они думают: хуля он с нами прётся, уж не придётся ли брать его с собой туда, куда мы направляемся. И мне было стыдно и неуютно, они «Титаник», а я кто такой? Пушар?
Майский долгий неприкаянный вечер, солнца уже нет, и холодно, но всё никак не стемнеет, не спрячет. По Беговой несутся злые машины, мы ковыляем параллельно по трамвайным рельсам, по ходу передаём друг другу косяк, но на улице так свежо, что трава не вставляет, просто символически – у меня есть, я угощаю, акт доброй воли, но больше кайфа никому никакого. Докурили, я выдержал ещё минут пять для приличия и, наскоро простившись, взглянув при этом наконец в лицо Оли, помчался самой быстрой своей походкой.
Вот тут Оля должна была меня запомнить: позже я узнал, какая она ярая противница всех этих дел. Выпить – морщась, но уж ладно, если в меру. Но ганджа – путь к герычу, такой вот предрассудок, распространённый среди тех, кто не пробовал ни того, ни другого.
На «Воплях Видоплясова» я посчитал возможным и необходимым подойти к сидящей на трибуне Оле и засвидетельствовать почтение. На «Сплине» тоже, но был пьян и не очень помню.
А потом Сева позвал меня на сэйшен «Титаника» в ЦДХ, после которого я, как школьник портфель, нёс Олину гитару до самого подъезда дома, где жили на флэту Удава Оля с Мышей. Они пригласили меня зайти выпить чаю, но, как и полагается школьнику, я сказал, что уже поздно. По дороге я умудрялся поддерживать беседу с Олей: она говорила о том, как это ужасно, когда люди садятся на иглу, я возражал какие-то банальности, мол, подсесть может только пустой человек, которому больше нечем себя заполнить, занять – хуйня полная, но я болтал чё попало, лишь бы что-то говорить.
- Но вот Сталкер, - задумчиво возражала Оля, - он совсем не пустой, он талантливый музыкант.
Я ничего не знал тогда о Сталкере и продолжал буровить общие места. Главное – иду рядом с Олей, несу массивный чехол с гитарой самой Алтуфьевой, вбит ещё один колышек, не следует перегружать его.
А ещё перед сэйшеном, в гримёрке ЦДХ – все кругом тусуются, она сидит, я оказался сидящим напротив, вроде представлены уже друг другу, и чтоб не мести больше пургу, я решаюсь прыгнуть со скалы – вдруг в лоб заявляю ей:
- Оля! – она вопросительно поднимает на меня взгляд. – Хочешь поехать со мной в Крым на машине? – выпалил я всю информацию: то есть понятно, что «со мной» – возможно, мало интересного, зато – в Крым да ещё и на машине.
- А у тебя что, машина есть? – слегка удивилась Оля.
- Да вот появилась недавно, правда, я ездить ещё не научился.
- Что, смертников ищешь? – спросила Оля, и до меня вдруг дошло, что пошутил я очень неудачно, что не понимает она таких шуток.
Я стал поспешно объяснять, что я ездил, и вполне нормально, но уже давно, что это как гитару в руках не держать несколько лет. Неудачный пример – Оля знает, что такое гитара, и если несколько дней в руках не подержит, выступать не решится.
Вот и пришлось доказывать, как я езжу. Сперва я прокатил Севу с Борей, они зашли в гости к нам с Галинкой, пыхнуть, это у нас с Севой традиционный предлог для общения.
- Ну что, довезёшь нас? – предложил Сева.
- Какой базар, - я понимал, что это важная проверка.
Сева показывал дорогу – по Масловке, по Сущёвке, через Рижскую эстакаду на Спартаковскую, под мост, на мост, у «Электрозаводской» Боря вышел, поехал дальше на метро, а я довёз Севу до его дома и кое-как нашёл дорогу обратно. Сева отметил, что я слишком долго выжимаю газ, не переключая передачу, мол, так расходуется больше бензина. Но в целом остался доволен. Тоже мне знаток – сейчас-то я вижу, что не умел тогда ездить совершенно.
Через пару дней после этого я целый день катал по Москве Олю.
В переулочке возле Никитской я умудрился припарковаться, чудом не задев ни одну из густо натыканных иномарок. Пыльный подъезд, обшарпанный лязгающий лифт. Необъятная выселенная квартира. Заправляет в ней дядька, похожий на Бармалея, которого я уже видел в «Крыльях советуют» – его дожидалась «Ауди» с серьёзными тщательно одетыми пиратами ХХ века, он же беспечно разгуливал в широченных болтающихся шортах и шлёпанцах на волосатых ногах, с пузом, с бородой, волосы не длинные, но всклокоченные, уверенный в том, что ему можно появляться где угодно в любом виде.
Мы прошли на кухню мимо нескольких комнат, по периметру которых стояли компьютеры, мальчики отрешённо упёрлись в мониторы. Обычно в таких заброшенных квартирах, обжитых хипаками, стены покрыты граффити и прочими приколами, когда-то и у меня был такой флэт на площади Победы. Здесь только несколько рок-афиш – обитателям этого помещения не до глупостей.
Оля ушла улаживать свои дела, а рыжий юный помощник Бармалея стал предлагать мне чай и даже завязал беседу. Мне казалось, что меня должны были бы бросить одного, может даже в коридоре – ведь видно, что попал я не к хипанам, а к сильным мира, да ещё и традиционно подпольно сильным. Закрытая для профанов ложа. Наверно, рыжий, ученик на поприще менеджмента, считает нужным где угодно и с кем попало проявлять коммуникабельность. И знает к тому же, как часто ничем, казалось бы, не примечательный сегодня придурок превращается завтра в суперзвезду. А может, ему просто нехуй было делать?
Оля позвала меня смотреть свежеснятый клип на её песню. А сама опять скрылась в безразмерной квартире.
«Ну как?» – спросил меня парнишка, демонстрировавший клип. Я честно выразил своё недоумение: «Она сделала шаг» песня замечательная, хит – и такой тупой, по-совдеповски беспомощный видеоряд. Оля, одетая, как советская тусовочная герла, что-то среднее между цыганкой, торговкой семечками и собирающей бутылки бомжихой, пробирается через какие-то заросли, русские топи и хляби, чтоб пролезть в запущенный сад, и только протягивает руку к привязанному, как на новогодней ёлке, яблочку (поскольку очевидно, что в снимаемое время года яблоки не растут) – бородатый сторож поднимает двустволку и разит Олю наповал. Неожиданно жёсткая концовка. По-моему, глупее не придумаешь.
Парнишка стал спорить, мол, в том-то и дело, что песня уж очень серьёзная и потому-то и захотелось ему для контраста сопроводить её шутливой картинкой. Во, он ещё и автор, а я так раскритиковал. Я сразу согласился, что на стебалово над Олей действительно похоже, но тогда было бы смешнее, если бы сторож стрелял не боевым зарядом, а солью, прямо Оле в жопу, и заключительные кадры – как она отмачивается в тазике, ещё и эротика. А насмерть – как-то всё же не смешно.
Потом мы отправились во ВГИК, где я довольно долго дожидался её на лавочке, созерцая студентов. Я почти всю жизнь был студентом, причём большую её часть – близкого по профилю вуза, киноинженеров, и, как и большинство поступавших в него, тоже сперва смутно грезил о ВГИКе.
Ещё мы заезжали к её знакомому частному зубному врачу, тоже в какой-то подпольный переулочек. Оля преложила мне не ждать, а ехать по своим делам, но я заверил её, что никаких дел у меня нет. Дело у меня было одно – сойтись с ней поближе.
- А ты где живёшь? – спросила Оля, когда мы прощались у её дома.
- Да я же говорил тебе уже – живу с герлой.
- Нет, ты говорил «живу у герлы». Это ведь не одно и то же – жить с герлой или у герлы?
Неужели ей захотелось, чтобы просто «у»?
Перед расставанием я вручил Оле альбомчик с выборкой крымских фоток, надёрганных из семи альбомов. «Ну ты и скотина, - возмущалась Галочка, наткнувшись на этот альбомчик, - сборник он сделал! Вот я на море с Инкой, вот с Ришей, вот с Галей, вот с Ирен, вот со всеми одновременно. Вот мой хуй, вот моя жопа». – «Нет, ну а чё, - оправдывался я, хотя Галочка, конечно, попала в точку, - надо же предупреждать человека, что мы нудисты, разве нет? А смысл такой – вот мы ночью у костра, а вот рапанов едим, а вот хижину из тростника построили. Я ж не виноват, что при этом в кадре герлы разные».
Уж не знаю, какое произвели на Олю впечатление сеансы нудизма, но в целом, я полагал, фотки должны были её успокоить – нормальные люди, к тому же хаератые, и хоть никому неизвестные, может, всё же в чём-то интересные? Хоть чуть-чуть?
Позже, уже в Симеизе, на прибрежных камнях, тусовщицам, расспрашивающим меня, как я познакомился с Олей, я, подобно Незнайке в окружении малышек, повествовал так:
- Знаете же песню – «удивись мне, превратись со мной во что-нибудь»? Короче, я уже год пиздец как удивился и во что только за это время не превращался. Ну а её – чем я могу удивить? Взял купил тачку и говорю: а поехали со мной в Крым? А она совсем не удивилась и говорит: поехали. Как Гагарин.
- Ничего себе, - задумчиво протянула одна герла, чем очень мне польстила, - мне бы кто-нибудь так сказал: хочу тебя удивить, поехали на море. На тачке – ништяк…
Но на самом деле я до сих пор поражаюсь тому, что она поехала. Какое-то суперзнамение, случайности, совпавшие в закономерность. Я уверен, она сама себе поражается.
Во всяком случае, раскаиваться она стала то и дело с самого начала. Впрочем, она из тех, кто любит это – раскаиваться.
Тусовщицам я не стал рассказывать, откуда взялась машина. А вообще-то знамения были такие.
В декабре, когда стало окончательно ясно, что Галинка залетела, я пришёл в ДЭЗ по её месту жительства и предложил: хочу у вас работать, но не имею московской прописки, давайте оформим одну девушку, а работать буду я. Перед этим пару лет я аналогично был устроен в Инкином ДЭЗе, за сугубо временное жильё, но весной мама вдруг купила Галинке квартиру, так что летом мы с ней не спешили возвращаться из отпуска, и Инку уволили за прогулы, это ничего, трудовая была липовая.
Живота ещё не было видно. По знамению нам достался участок как раз вокруг Галиного дома. Но мы взяли ещё два участка – декрет ведь начисляют, исходя из общего заработка. В особенно сильные снегопады на помощь приезжали Инка с Филькой. А уже в апреле Галинка родила, несколько преждевременно. Я хотел назвать девочку Олей, но мама Галки непременно желала Машу, по каким-то фамильным раскладам. Ну что же, сказал я, мы как раз хотим на декретные деньги купить машину, и нам немножко не хватает, баксов 200. Ещё я подумал, а нельзя ли мне как-нибудь сменить имя на Хуана – тогда девочка была бы Марией Хуановной. А вообще Маша – созвучно с машиной, тоже знамение.
Уж не знаю, где бы и как сблизился я с Олей, если бы не Маша.
Практичный Сева сразу сообразил, как использовать появившийся вдруг транспорт – перевезти одеяла и кастрюли на дачу, где собирался провести лето он, приплюснутый семейством. И заодно показать мне, какие у Оли кроме Крыма перспективы на лето.
Мило, конечно… Во дворе чёрный пруд, кругом высокие сосны, пара избушек и недостроенная башня «нового русского». Сева объяснил, что строительство тормознулось потому, что фундамент стал сползать в пруд, незнамение заглотчикам, зато знамение ребятам, сторожащим эту неоконченную пирамиду, ну и ему прицепом.
Возвращаясь в Москву из Крыма, я всякий раз поражаюсь нашим предкам, выбравшим такое место для столицы. Возвращаюсь вынуждённо, потому что столица, но почему кругом неё такая неизбывная грязь, а над ней вечно тусклое небо? Был же у них когда-то Киев столицей, могли бы спуститься ниже по Днепру, или в Одессу, или в Крым тот же? Так нет же, им наоборот в оконцовке мало показалось Москвы, они ещё и Питер воздвигли на болоте. Ни жара, ни перца, вместо борща щи из крапивы, вместо плова каша, вместо мантов – липкие бесвкусные пельмешки, вместо хванчкары – 72-й. Наверняка это напрямую связано с хрестоматийным русским садо-мазо. Хотели поскорее наверстать цивилизацию, а то, что считается прогрессом, происходит в основном, когда человеку хуёво, потому-то он и такой, этот самый прогресс.
Я понимаю романтику Алёнушки у пруда, окружённого заколдованным бором (но представляю, как там, в бору, грязно, сыро, топко, и какие невыносимые комары), и шишкинские поля до горизонта напоминают мне море, но они и в Крыму есть, в детстве я часами не мог оторваться от этого волшебства – волн, которые ветер гонит по пшенице.
Я всё понимаю, но такая уж у меня инерция мышления – не могу я представить себе лето без моря и гор, такое лето для меня – потерянное, а мне жутко жаль их, своих лет, сколько их там ни достанется (знаменательно, что время меряют летами, а не зимами). Жил бы я на Ямайке – воспринимал бы своё время совсем по-другому, а тут – живёшь от лета до лета, всю долгую зиму (даже в мае!) дожидаешься, когда же снова можно будет не напяливать на себя кучу тяжёлых стесняющих тряпок, а ночевать можно под любым кустом. А оно промелькнёт так, что и не заметишь, и уже в конце его – тоска, что всё, скоро уже начнётся это тягостное ожидание, только ещё начнётся, и сколько ещё его будет, и опять надо его пережить, чтобы снова наступил кайф, тепло, когда легко жить, подобно крыловской стрекозе-буддистке.
И не один я так думаю. Большинство всё же стремятся по возможности в Крым в отпуск съездить, а не в Нечерноземье, а если на острова, то чаще на Канарские, чем на Соловецкие.
Ещё в детстве, когда я смотрел «Бриллиантовую руку», во время эпизода «Будете у нас на Колыме» меня вдруг ужаснула мысль: а если б я тоже там родился, и мне всю жизнь на приглашение в гости отвечали: «Уж лучше вы к нам»? Повезло всё-таки! Хоть в чём-то.
Потом мы поехали в «Крылья советуют» перевозить какие-то колонки. На Масловке на светофоре я рванул было на зелёный, но тормознул, пропуская наглую иномарку, лихо торопящуюся на загоревшийся ей уже красный. Сзади удар – «Волга». Испуганный водила выскакивает глянуть – симпатичный, в очках, интеллигентный. Я тоже посмотрел – след заметный, но на скорость не влияет. Мы с ним пожали друг другу руки и поехали дальше. Знаю я, как обычно поступают в таких ситуациях, но думаю – потому что пидарасы.
(Под этим словом я никогда не имею в виду половую ориентацию, отнюдь, не «педе», а «пида», слово народное, ёмкое – исчерпывающего все смыслы синонима я подобрать не могу).
А вечером мы оказались в Ингушском посольстве – что бы за знамение, думал я, хорошо хоть не в чеченском. Сева договорился там о совместной работе с хозяином звукозаписывающей студии, начинающим в преуспеянии хорошо в его молодые годы упитанным ингушом, и знакомил его в этот вечер с Борей, Мышей и, конечно же, блистательной Олей. Так вышло, что наверху в посольстве праздновали чей-то бёсдник, и по такому случаю ингуш принёс гостям студии водки. Правда, меня удивило, что в конце мероприятия он завинтил недопитую бутылку и унёс обратно наверх, а не дал ребятам с собой.
Оля не пила – водку-то, разумеется, к тому же ещё пост какой-то там был. Я был за рулём, поэтому тоже мог не принимать участие в застолье, а валяться на полу, серый палас был мягким и чистым, и смотреть на поющую Олю, сидящую на высоком вращающемся стуле, как на троне или на насесте, и не умирал я от кайфа на месте только потому, что чувствовал уже – то ли ещё будет.
Пользуясь расслабляющей ситуацией, я решился решительно спросить: перед лицом твоих друзей, поедешь в Крым или как? Ребята, понятно, отягощённые семьями, но ты, влачащая к свету их якоря, тебе ведь нужно это, ну… солнце, воздух и морская вода?
- Ну, одна-то я не поеду, - задумчиво протянула Оля. – Это вот Мыша инициатор, всё уговаривает меня. А ты когда вообще думаешь ехать?
- Как скажешь, так и поедем. Давай прямо сейчас, пока не передумала.
- Сейчас? – задумалась она. Вот как всерьёз она всё воспринимает.
- Или ну давай завтра?
- Завтра? Завтра нам надо разбираться с вещами…
- Вещей надо брать с собой поменьше, я же уже говорил…
- Да нет, понимаешь, Удав хочет отремонтировать за лето свою квартиру, тёща с женой жмут на него, что надо сдавать её, за деньги. Так что нам нужно упаковать свои пожитки. А ещё загранпаспорта надо сдать на визу… Может, послезавтра?
Потом я отвёз Севу домой, остальные решили, что пока его отвезём, быстрее на метро. Когда я остановился возле его подъезда, выключил зажигание, и настала обычная при расставании пауза, Сева изрёк:
- Береги Ольгу.
Очень веско сказал, впечатавшись в мою память. Он ведь тоже артист. Тоже колдун и ещё какой!
Это было во вторник, в четверг выезд. А в пятницу в «Крыльях» опять (кот)Летов. Но не выехав в четверг, не передумает ли Оля ехать в субботу?
А в понедельник было другое знамение – открытое для всех интересующихся собрание НБП. Я хотел сходить, чтобы улучив момент, сказать Лимонову:
- Здравствуйте… (хуй его знает, как обращаться – Лимонов? Эдуард? не по отчеству же). У меня в Крыму непаленая хата – вдруг понадобится? Да и машина есть, если чё.[1]
Но с утра в понедельник я уже договорился делать в Зелёнке в автосервисе, где работает мой старый друган Игор, сход-развал, а там оказалось, что перед этим пора бы заменить подшипники ступицы, и увидев, что дело затягивается, я решил пробросить Лимона – а вдруг Оля решится ехать прямо завтра? Хотя одновременно допускал, что может и вообще ничего не получиться, в смысле с Олей.
В среду я постирал джинсы и прочее, что собирался взять в дорогу, сходил на оптовый – сигареты, чай, туалетная бумага, соевый соус (для моего брата Славки в Симфике), курица.
Оле не звонил – вдруг передумает, а так – вроде договорились.
В четверг проснулся в 8 по будильнику (всю ночь то ли спал, то ли грезил), поджарил в гриле курицу, отнёс в машину упакованный с вечера багаж. Для порядка позавтракал, хотя в такие торжественные моменты аппетита у меня никакого. Посудите сами – покидаю бедную Галиночку, остающуюся с нашим маленьким ребёнком, отправляюсь в неизвестность. А вдруг нас с Олей КАМАЗ переедет или вдруг мы решим пожениться?
Возвращался, игнорируя примету, три раза, главное – ничего не забыть, а уж примета… ни разу ещё не замечал, чтобы сработала такая примитивная запутка, как примета, для этого надо не на шутку на ней зарубаться, иное дело – знамения, а они пока, насколько мне слышалось, говорили, что всё идёт по плану.
- Ну ты уже точно думаешь, что едешь? – спрашивала Галя.
- Да вроде… - пытался почувствовать я. – На крайняк будем считать это генеральной репетицией. Позвоню ещё от Оли.
Что ж это за Галя такая? Вот… понимает. Она с недоношенной Машей ехать этим летом в Крым никак не может, но вовсе не считает, что из-за этого у меня должно пропадать лето. Декрет заработали, и что ещё мне в Москве делать? И ещё она знает, что значит для меня, например, Летов, а Оля – примерно то же самое.
С Инкой и Галинкой я познакомился одновременно давным-давно.
После школы я поступал в МГУ, не вышло, поступил в керосинку (МИНХиГП) на бурение, год наблюдал алкоголиков бурил, забрал документы и снова штурмовал МГУ, опять неудачно. Опять поступил в керосинку, теперь уже на химический (много герлов), на этот раз выгнали КГБешники за смелую по тем временам постановку типа капустника, сочетавшую рок-песенки с антикомсомольскими скетчами. После этого я год ничем официально не занимался, хотя на самом деле работал гувернёром у туркмена Хутайберди, который учился на подготовительном отделении вместе с моим одноклассником Мильёном. Тогда же я затащил в Москву другого своего одноклассника Вождя (сейчас он уже просто Славик), специально приехал в Крым, купил ему билет, а потом мы вместе обошли кучу вузов, пока не остановились на том, где ожидался самый низкий проходной балл. Потом я устроился дворником за московскую прописку, а также убедил устроиться дворником своего лучшего друга Джонни. С Джонни мы гуляли по Москве, питались молоком и хлебом, ночевали в подвалах и на чердаках и читали друг другу свои стихи. Он же впервые привёз мне ганджа из Чуйской долины. Он же, когда был студентом и жил в общаге с негром, первым приколол меня, что кроме «Лед Зеппелин» уже есть «Бони М», а потом – «Супермакс», а потом – Марли.
Вот у него на флэту я и увидел впервые Инку с Галинкой, которых привёл Вождь, они учились с ним в одной группе. Я был молодой, совсем дурак, почему-то вообразил, что они невинные девочки, и я не имею права их трогать. Дурак, начитался книжек. Ну трахнули их другие, ну и что? К тому же я жил тогда с Ирен, и опять же ёбаная литература зомбанула меня, что одно мешает другому. Именно зомбанула, поскольку как мой личный уже опыт, так и вся история человечества говорят о противоположном.
Мы с Ирен играли в то, о чём читали: с участием Джонни сотворили треугольник, а потом Ирен, подражая Настасье Филипповне, развеяла по ветру довольно большую сумку травы, привезённую Джонни из Чуйской долины и хранившуюся у нас. Оказалось, что дружба дружбой, но теперь всю мою аппаратуру плюс бобины я должен отдать Джонни в качестве компенсации. Я и отдал, но чтобы доказать, какая хуйня то, на что он меняет дружбу, поехал с Джонни в Чу. Я уже учился таки в МГУ, но казахские мусора прервали мой учебный процесс аж на три года.
Предлагаемые Ирен игры вполне сравнимы с герычем, столь нелюбимом Олей. Нет, не любовь это, а просто ебанутость на всю голову. Три года мне понадобилось, чтобы спрыгнуть.
Откинувшись, я прилетел в Москву, заехал в общагу МГУ к Ирен, увидел, что она играет во всё то же, и убедился, что мне это скучно. Позвонил Инке (её я успел трахнуть в последний день перед отъездом) и поехал с ней на флэт, который снимала Галя. После трёх лет онанизма.
Потом я увидел, что единственный способ судимому прописаться в Москве – жениться на Инке. Это не цинизм, просто мне всегда были противны эти штампы в паспорте, я считал (да и считаю) брак ужасной пошлостью, но что делать, если комиссары придумали прописку? Пожив полгодика с её родителями, я решил, что не всю же жизнь грузчиком работать, и будет гораздо романтичней, если я буду учиться в питерском вузе, и мы будем ездить друг к другу в гости.
С Галкой я по ходу тоже потрахался, но так как-то… у неё там тоже муж появился…
И вот уже после института я опять работаю дворником за жильё и сижу как-то раз вечером в гостях у Инки (в гостях потому, что она уже давно нашла себе состоятельного Морковку; мне грустно думать, что мне до Лимона, как лавочнику Морковке до итальянского графа), и тут ей звонит Галка из Крыма – там чудесная погода, но через пару дней она едет обратно в Москву.
Конец сентября, лето я уже отгулял в Крыму в полный отпуск, но так меня что-то вдруг вставило, что на следующее утро я сажусь на поезд, а ещё на следующий день уже брожу по Алуште в поисках Гали. Она была там с какой-то левой подружкой, и вот я рассуждаю – где ещё им проводить свой последний день в Крыму, как не на море? Сперва я прогулялся по набережной чуть ли не до Сатеры, потом – до Голубовских камней (бывших, кретины-коммуняки ещё в 87-м похоронили их под бетоном; один из немногих кайфов перестройки в том, что она поставила крест на всех этих дебильных начинаниях, а в частности – на Крымской атомной станции). Герлов полно, но всё не те. Ну что ж, думаю, незнамение, иду на троллейбусную станцию – билеты на Симфик только на троллейбус, идущий часа через полтора, проще пойти на автовокзал и там сесть на проходящий ялтинский. А по дороге можно зайти на рынок – вдруг они перед отъездом захотят купить фруктов.
На рынке их тоже нет, я смирился, иду к автостанции, никого уже не высматриваю и вдруг слышу:
- Фил! Ты откуда здесь взялся?
- Да вот уже с полчаса вас разыскиваю! – ну, это для красоты, не признаваться же, что уже целый день.
Уже на Нижней Масловке я вспомнил, что забыл таки кое-что важное – карту звёздного неба. Который год уже забываю.
Когда я уговаривал Галю остаться в Крыму ещё на несколько дней, я сказал ей: я покажу тебе звёзды. На самом деле я спиздил эту сентенцию у француженки из «Игрока», но Галка подумала – это именно я именно ей так говорю, да собственно – и правильно подумала. Довольно банальное словосочетание, но на неё оно подействовало чисто что ни на есть магически, она потом не раз вспоминала. Оле уже, значит, так не скажешь, западло повторяться. Вот так живёшь – всё больше фишек уже были и всё сложнее придумывать что-нибудь ещё.
Придумывать ничего не надо. Лишь бы вырваться, лишь бы встать на трассу, а дальше всё по плану... насколько, конечно, ты безупречен.
Ещё мне любопытны такие знамения. Представьте, насколько большая Москва. А квартира Удава находится на расстоянии одного перегона метро от квартиры, которую купила Галинке мама и на которой я впервые узнал об Оле. Кроме того, квартира Удава в двух шагах от дома, где живёт первая жена Игора и где мы с ним (и с Инкой, и с Галинкой) тусовались сколько-то лет назад. А «Крылья советуют» как раз посередине между квартирами Гали и Оли. А репетиционная точка, где Мильён познакомил меня с Севой и Борей, в двух шагах от квартиры на площади Победы, где я впервые работал дворником и откуда уехал в Чуйскую долину. Я тогда оставил работать вместо себя Игора, а освободившись, ещё и последнюю зарплату получил.
Можно предположить, что случайностей вообще не бывает, вернее – они случаются, досадные, лишь тогда, когда, следуя собственным глупым планам, отступаешь от плана, по которому всё идёт.
Оля с Мышей не волновались нисколько и преспокойно спали. В разных комнатах, отметил я.
Бедные Оля с Мышей! Не довелось им родиться москвичами (как и мне, но я уже привык). С другой стороны, родись они в Москве, талант их был бы совсем иным. Как Янка не стала бы Янкой, будь она москвичкой. Впрочем, пофиг, стала бы Умкой.
Примерно так думал я, оглядывая их пристанище. Первый этаж, солнце почти не проникает сквозь деревья, хотя всё равно – окна зашторены. Форточку тоже, судя по запаху, никогда не открывают, да и стиркой не очень заморачиваются, сушить-то всё равно негде. Судя по размерам клетушки, в которой прямо на полу расположился Мыша, можно предположить, что хозяева сами отгородили её от изначально однокомнатной квартиры. На кухне тоже не повернуться. Зато прихожая, по загадочному замыслу архитектора, в два раза больше кухни.
В комнате Оли сидеть, кроме её дивана, можно только на полу. Пара полок с кассетами, книжки на столике, ни к чему не подключенные колонки типа 35АС и мыльница на полу посреди комнаты (в связи с повсеместностью этих мыльниц сейчас уже мало кто знает, что такое настоящая стереобаза и тем более – что такое низкие частоты). (Даже суперзвуковик Сева не может завести у себя дома нормальные акустические системы, не до того – ну как это? я не понимаю… трое детей? значит, важнее их прокормить, чем поставить на Дорогу? ).
Пока они расчухивались, я на кухне заваривал им чай. Оказалось, у них есть только каркадэ, это такой красный чай, который очень похож на компот, если заварить покрепче. Я-то чифирист, давно присажен очень плотно, если с утра не выпью свежего чаю, неизбежно впадаю в психопатию. Я пытаюсь бороться с этим, стараюсь отделаться от этих своих припадков «пока не выпил чаю», но единственное, чего достиг – по возможности контроля за свой психованностью. Может быть, когда-нибудь мне захочется расстаться со своими дурными привычками, но пока я предпочитаю просто иметь запас чая и сигарет и ограничивать общение с ближними в промежутке между пробуждением и чаем. А вообще полная логическая цепочка такая: главное с утра – совершить омовение, но перед этим, чтоб уж сразу ото всего отмыться, нужно после ночи просраться, а этому очень способствует сигарета, а чтобы от сигареты натощак не заныла тупо голова, её нужно сочетать с крепким чаем (вариант – кофе, но не какао), а чтобы от крепкого чая натощак не сблевануть, необходимо закинуть что-нибудь на кишку, оптимально – одно яйцо.
Оказалось, им нужно ещё упаковывать всё те же вышеупомянутые пожитки. А чтобы я не скучал, мне тоже нашлось дело – отвезти всё те же вышеупомянутые загранпаспорта какому-то мудаку, который даром, что на новеньком «Фольксвагене» с люком (а если взглянуть глубже, то как раз поэтому), не может, выезжая из Медведок, свернуть на Сущёвский вал, заехать к Оле на Бутырку да и выезжать на свою Тверскую – лишних пару километров, а учитывая пробку на Бульварном кольце, так даже быстрее. Нет, ему настолько некогда, что он может встретиться только на повороте с Бульварного на Тверскую – ну не мудак ли? а я должен чуть ли не час его на этом повороте дожидаться. Тут для него не в паре километров дело, а в том, чтобы лишний раз показать, так уж принято в этих кругах, что кому это надо, мне или вам. Талантливая ты, Оля - а без меня, неталантливого, не можешь обойтись.
Они уверены, что это и есть дружба, вправду уверены, такие у них понятия, они если и слышали, что бывает иначе, то не верят в это. И других уверяют, так что такие, как Оля, даже начинают верить им и всерьёз говорить «мои друзья». Они считают, что и так помогают, и вот это и есть дружба, что помогают тебе, а не другому. Но самому при этом навариться, поиметь интерес – да обязательно! иначе что ж за дружба такая получается? это просто дураком оказаться получается.
Зато я по ходу, раз уж оказался на Пушке, зашёл к Мишелькам, чтобы облегчить их ношу.
С Мишелькой вместе учился Джонни, когда я учился в керосинке. Подружился я с ним позже, когда мы вдвоём ездили автостопом по Крыму. Он тогда был одним из первых подпольных каратистов киукашункай, и мне очень нравилось иметь спутника с не хуже, чем у меня, развитой фигурой. С тех пор так и общаемся – в основном в Крыму. Сам он из Сухуми, воспитан абхазскими пацанами, но по национальности – смесь азера с полячкой. При советской власти было принято отдавать детей в вузы, чтобы они получили дипломы о якобы образовании. Уж не знаю, каким образом, но Мишелька получил его и даже отработал пару лет по распределению, после чего вернулся к корням в сухумскую уголовную среду друзей детства (когда он приезжал ко мне в Питер, не раз приносил что-нибудь типа зонтика или фотоаппарата и показывал разные отмычки для разных машин), о дипломе больше не вспоминал, сперва подпольные цеха, потом кооперативы, в итоге чуть не хапнул срок, но как раз познакомился с Элеонорой и вовремя перебрался в Москву, откупившись от мусоров машиной.
Этим летом Мишелька с Элеонорой были запланированы мною на два остающиеся в машине места. Своего Гийку они собирались оставить пока у бабушки в Орле, но Гийка неожиданно таинственно заболел…
На самом деле ехать втроём, конечно, легче. К тому же, не стоило сразу загружать Олю непонятным кавказцем. В Крыму – другое дело, они присоединились к нам, и никуда уже не денешься. А поначалу мне гораздо лучше было самостоятельно пообщаться с неведомыми познаваемыми мною Олей и Мышей. Так что тот план, по которому у Гийки случилась болезнь, был безусловно лучше моего изначального.
Но я тогда этого не понимал. Я рассчитывал, что Мишельки разделят со мною расходы на бензин. Оле я предложить такое не мог – тоже мне, пригласил в Крым, а потом денег просит. Я собирался знакомиться с Олей за счёт Мишелек.
И поэтому по дороге к ним думал так: вечно они со своими болезнями, то грипп, то просто шизофрения зарубает. Понятно, когда у Галиной мамы, как она говорит, вступило в ногу или куда там ещё вступает – в поясницу, в бошку? Но когда тридцатилетняя молодуха так мучается с зубами… А уж пятилетний Гийка – ну что там может случиться такого, что даже до Орла не доехать? Малахова все читали, а ни хуя не хотят применять. Блядь, ведь элементарно – прочисти кишки, а дальше – ангел света, ангел воды, ангел воздуха. Хуёво тебе – ну поставь ещё клизму. С тех пор, как Галочка научила меня клизмам, я не болел ничем ещё ни разу.
За всю дорогу я ни разу не заметил, чтоб хоть кому-то из моих спутников хоть раз пришло в голову сделать утреннюю зарядку. Так-то всяк вступит рано или поздно, и скорее – рано.
Напрасно я так думал, как и всегда в аналогичных случаях. Всё складывалось удачно, а мне бы лучше было безо всяких мыслей, а тем более таких негативных, наглядеться на Москву перед разлукой. А я не хотел уже на неё глядеть. Я ждал всю среду, метался и вставал курить ночью, в 8 взвился, и вот уже, можно сказать, рабочий день идёт к концу, а я всё ещё в Москве.
Последнее дрожание тетивы моих психованных нервов перед стартом.
Она садится в машину, я вжикаю стартером, взрёвываю мотором, потихоньку трогаюсь.
Шаг сделан.
2. Он вылетел за ней в трубу
Из Москвы мы выезжали под «Сплин».
На мой вкус, самое в машине важное после двигателя – магнитофон. Недели две я покупал (не каждый день, конечно) «Из рук в руки», вдумчиво валялся на полу с газетой, сигаретой и фломастером, потом прозванивался, иногда ездил смотреть. В день своего рождения решил, что хватит сравнивать, и выбрал изо всего увиденного пятёру без мафона, зато с троечным движком, тем более владелец согласился скостить 200 баксов. Пока мы с Галинкой бегали с пачкой рублей по обменникам, мы были косые, но ещё под контролем, а ко времени оформления я был уже – полные дрова, хорошо хоть я вызвал Мишельку, чтоб припугнуть бывшего владельца его кавказской внешностью, чтоб не соблазнился кинуть пьяного.
Гнилая, конечно – например, прямо под педалью сцепления дыра размером с блюдце, если бы не резиновый коврик, нога бы проваливалась. Но ничего лучше за $1300 в газете не предлагалось, зато движок прёт – просто вырывает.
А мафон я купил в Митино самый дешёвый. Вернее, самый дешёвый стоил 135 тысяч (примерно $27), а я почему-то купил за 145. Типа выбрал.
Перед отъездом я заехал к Инке, она купила где-то в Подмосковье ну уж очень по дешевке кучу кассет и предложила мне выбрать себе любые. Я был необычайно тронут, представил, как стоит она в этом сельском магазине, умненькая девочка, знает такие слова, как “King Crimson” и “Genesis”, это ж мало кто сейчас из мужиков-то знает, а и кто знает, тот вряд ли купит, тем более сразу в таком количестве. Такая умничка, а когда мы поженились, у неё была кассетная «Электроника» и одна кассета – с «итальянцами». На подаренные нам на свадьбу деньги мы на следующий же день купили в комке почти новый бобинный «Юпитер», и не у кого-то переписали, а заказали в звукозаписи по каталогу «из-под прилавка», чтобы с качеством, наши первые семейные бобины – Боба Марли, Zeppelin, Pink Floyd…
Бедная девочка, ведь это ж никто из окружающих дураков не поймёт, если кто видел, подумали: крэйзи. Я представил, и у меня чуть слёзы не навернулись. Кассет я у неё набрал в дорогу как дар силы. Хотя позже уже подумал, что на самом деле всё было не так, как я представил, а просто у Морковки понапиздила. Всё равно умничка, даже тем более, настоящий Генерал Песчаных Карьеров[2]. Ещё она дала мне сто баксов, без них я бы пропал.
“King Crimson” я взял для Мыши, он вроде говорил, что это его любимая группа. Kate Bush – для Оли, чтоб не больно зазнавалась. Janis Joplin – давно не слушал, а позже оказалось, что для Умки. “Supertramp” – чтоб сделать приятное Инке, его мы слушали прямо с винила у моего приятеля Вотяка, предоставившего нам, ещё не забракованным, флэт для свидания. Позже оказалось, что для Умкиного сына, он давно уже хотел узнать, что это за группа, и, возможно, прикололся.
А дома, то есть у Гали, я выбрал в дорогу, разумеется, «Титаник», чтобы слушать без Оли. «Комитет охраны тепла» и Боба Марли – поскольку Оля последнее время стала открещиваться от рэгги, а это нездоровая тяга. На случай общения с крымскими аборигенами я взял Розенбома и сборник блатняка, на случай молодёжи – «Бисти бойз» и группу, которую неожиданно повзрослевший Гарик (сын моей давней подружки Пластилиновой Вороны), у которого я переписывал, назвал «Супергрув[3]», очень заводная и лиричная местами, похоже на “Chilly peppers”ов.
Ещё я записал три сборника в дорогу: 1) мой хит-парад русскоязычных команд, сторона – бодряки, сторона – медляки, 2) аналогично – англоязычных, 3) мой хит-парад БГ с одной стороны и Чижа с другой, плюс бонус – моя любимая у Кинчева песня «Мало-помалу», от неё я улетаю, как, может быть, в девятом классе умел улетать. Как сейчас от Оли улетел. Для Оли я и записывал эти сборники, ну и для прочих, кто подвернётся. Чтобы сразу выяснить общие точки и наоборот.
Также specially for Оля я выписал сборняк из «Сплина». Оля после их выступления в «Крыльях» была сражена: какая музыка! какие стихи! да я никогда не смогу так! и т.д. (вот за такие движения уважаю).
Сэйшен «Сплина» был на Инкин бёсдник, что позволило мне чудно решить проблему подарка – бесплатный проход ей с компанией, а также её личное знакомство с бесподобным Севой, у которого по знамению бёсдник в тот же день.
После концерта конферанс объявил:
- Дорогие друзья! Замечательный звук группе «Сплин» обеспечил знаменитый Сева из группы «Титаник», а до этого – из легендарного «Круиза». Друзья, у Севы сегодня день рожденья! Поприветствуем его!
Сева в это время пил водку с «Титаником» в комнате для аппаратуры, а за пультом на всякий случай сидел я. Толпа дружно повернулась и зааплодировала. Я встал и раскланялся.
Выходим на автостраду, можно давить на газ. «А, а-а, любовь течёт по проводам»! Какой ништяк – а, пипл, вы врубаетесь?
Впереди до горизонта трасса, в окошко ветер, на заднем сиденье Оля. Мотор прёт, бензин и деньги пока есть, мы врываемся в полуторатысячекилометровый тоннель, являющийся для нас сейчас дверью в лето, в конце его иное солнце и иной воздух всегда ждут, когда же надоест нам беспонтово дрыгать ножками и искать проблемы.
«Он вылетел за ней в трубу»…
Вот что я ощущал: один этот момент уже стоит полутора тысяч грина, вложенных в тачку.
Может, деньги и не совсем мои, но именно я нашёл им достойное применение. Сэйшен организовывают для публики, то, что организовал я – для Джа.
Оля, похоже, не очень врубалась в этот кайф. От начала и до конца путешествия она твердила, какая гадость все автомобили – шум, тряска, не повернуться, бензином воняет.
Зря. Вот Мишелька, например, гладил иногда наше корыто, целовал и приговаривал: «Ты моя сладкая, ты моя бедная».
Бензин – понятно, greenpease, но если уж по системным понятиям – как же тогда автостоп? Тоже бензин и шум, никуда не денешься. А на своей тачке среди своих – всяк лучше, чем стопом, why not, если есть такая возможность?
Я старался продемонстрировать все преимущества. Захотелось попить кваса – пожалуйста, останавливаемся у бочки. (Знамение – возле бочки остановилась ГАИшная машина, мы пьём вслед за мусорами).
Пора перекусить – сейчас, только место надо выбрать получше. Где-нибудь у речки. Вот как раз.
К речке крутой, заросший травой, опасный на вид спуск. Как специально мне возможность лишний раз показать достоинства аппарата.
Первый пикник на обочине. Умылись, я постелил среди высоких трав одеяло. Оказалось, моя курица мне на одного – пост же. Они взяли с собой литровую банку варёного гороха и давились им. Ещё у нас были московские гидропонные помидоры.
Коль скоро разговор зашёл о религии, выяснилось, что Оля прихватила в путь полуторалитровый пластиковый пузырь из-под кока-колы со святой водой, на наклеенном кусочке лейкопластыря так и было написано: «Святая вода». Предназначалась она не для питья, даже не знаю, с какой целью Оля её с собой таскала.
Впервые преломили хлеба. Я уже чувствовал себя, как в девятом классе среди мальчиков, а главное – девочек, организованных мною в поход в Красные пещеры.
Подъём тачка преодолела легко.
С первого же дня, вернее, ночи нашей поездки мне пришлось гнать 120 км/час. На автостраде между Мерефой и Перещепино я проверил наш аппарат на предел – 145 и дальше никак.
Я-то думал: выезжаем утром, ночуем в Днепре, на следующий день добираемся до Крыма. Но выехали-то мы вечером.
Давай заночуем где угодно, предлагала Оля. Я возражал: допустим, я буду спать в машине, а вы? На улице? Змэрзнете. А в тачке втроём тесновато, ещё вдвоём, да и то…
А ночь была действительно холодной. Под утро, после Перещепина и до Новомосковска начались завесы непроницаемого тумана.
На самом деле вполне можно было переночевать и в машине. Я искал пятёру именно за то, что у неё, как и у копейки, сиденья раскладываются в довольно ровное ложе. Втроём, конечно, без бутылки не очень, но до рассвета протянуть можно.
Просто в Днепре нас уже ждал Парфён. Я очень хотел познакомить Олю и Парфёна. Поделиться с ним кайфом иметь честь быть знакомым с Олей. Оле показать, как кайфово поёт Парфён.
Но пока она не слышала его – что толку его упоминать? Я говорил: в Днепре есть флэт, там можно выспаться, поесть нормально, помыться. Оле это не очень нравилось: по флэтам я и в Москве могла сидеть. Каждый день на счету: до Амстердама надо успеть побывать у Мыши в Адлере, а потом ещё и к своим родителям заехать. Ну разве так можно, пытался вразумить её я, вон у Булгакова один персонаж тоже в Кисловодск твёрдо намеревался попасть…
Я упорно прорывался сквозь ночь. Останавливался только на постах ГАИ, где зачем-то записывали, откуда и куда едет машина, и попутно убеждались, что огнетушитель, знак аварийной остановки, аптечка – всё на месте. А брызговики, объяснял я каждый раз, есть, но лежат в багажнике, вот доеду до дома – и сразу привинчу. Пару раз приходилось доставать их, показывать, что не обманываю.
На таможне у Оли с Мышей возникла проблема с паспортами, какие-то там вкладыши нужно вклеивать, понапридумывали мытари, как братьев потрошить. Проблему успешно разрешили, подарив вымогателям две свежевыпущенные кассеты с записью сэйшена, после которого я нёс Олину гитару. Придирчиво сверив фотографию на обложке с живой Олей, таможенники попросили её расписаться на кассете.
Каждый раз, когда ослепляют встречные машины (лобовое стекло у нас старое, всё в царапинках, загорающихся во встречном свете), я понятия не имею, куда мы несёмся, просто надеюсь, что никто не станет прыгать под мои фары. Не может же быть, чтоб всё это организовалось только затем, чтобы Оля влипла в какую-нибудь хуйню.
А впрочем, с нею вместе – да хоть бы и разбиться. «Камикадзе любви» – есть же у неё такая песня.
В шутку я даже намекал на такую возможность. Она совершенно серьёзно меня отговаривала: ты это брось, всё же лучше пожить ещё немножко. Слышала уже где-то, что бывают люди, которым стоит лишь по-настоящему пожелать (а порой и в шутку) – как это сбывается. Особенно чернуха, её большинству вызывать легче.
Когда месяц назад я впервые сел за руль нашей пятёрки, оказалось, что я совершенно разучился ездить. Ко мне на пост-бёсдник подкатили из Питера Макс с Нэт и подбили меня показать им свежее приобретение. Ну что же делать, рано или поздно начинать всё равно придётся, хотя я бы предпочёл потренироваться сперва в одиночестве.
Едва мы выехали из[4] двора на улочку, по счастью, всегда пустынную, я почувствовал себя запутавшейся в своих ногах сороконожкой. Как там – сцепление, передача, газ? Вдобавок, мотор оказался совершенно иным, чем у бывшей у меня когда-то копейки – стоило лишь слегка прижать газ, машина прыгала, как антилопа. И наоборот, при лёгком, как мне казалось, касании тормоза она вставала, как вкопанная, а пассажиры опасно клевали носами. Я сразу захотел назвать её Кобылой за норовистость и необъезженность, хотя, конечно, дело было не в ней. В общем, я испугался, кое-как развернулся и заехал обратно во двор. Покатались – теперь можно и похмеляться.
На следующий раз я уже всё вспомнил, но нужный автоматизм и уверенность появились у меня только уже зимой, после ежедневной работы извозчиком. А за лето я успел поставить мои любимые отметины на все четыре крыла, в общем, тому ещё водителю доверились Оля с Мышей.
А впервые я прошёл эту трассу за рулём семь лет назад.
С Мастером я захотел познакомиться потому, что он был звукооператором в ЛДМ. В нашей общаге я целый год слышал о нём, а он обо мне. Мне о нём рассказывала навещавшая меня панкушка Наиля, которая кого только не навещала, а ему обо мне – Неваляева, которая понравилась мне когда-то тем, что была копией «Маленькой Веры». Наконец я сам пошёл к нему знакомиться. Ко мне тогда пришла одна герла, которая хотела бы курнуть, а так случилось, что у меня было нечего. И я отправился к нему – не одолжит ли? У него кое-что нашлось и очень высокого качества. Итак нас с ним свели все три первоисточника – рокенрол, секс и ганджа.
Тогда он был таким же нищим, как и я. Но потом вдруг пристроился к тем, кто первыми стали заниматься обналичкой, и резко разбогател.
Он-то и дал мне денег, чтобы я тоже купил машину. Стоила тогда моя копейка, как 25 000 буханок хлеба, сейчас такая стоила бы от силы 2 000 буханок, впрочем, если сравнить по долларам, то одинаково.
О том, как я учился ездить, среди моих друзей того времени ходило множество легенд и анекдотов, например, как я в первый же день пять раз подряд врезался в один и тот же «Запор», или как на Литейном у меня лопнул тормозной шланг, и я врезался в мусоров прямо напротив их главной мусарни. На самом деле у меня не получилось выехать буквой “S” задним ходом, и я задел этот «Запор», испугался, стал спешить, хотел съебать, пока никто не увидел, стал дёргаться вперёд-назад, каждый раз всё больше этот «Запор» рихтуя, и всё это на глазах живущего на втором этаже хозяина «Запора». Наконец я бросил это дело, запер машину и пошёл за Мастером, чтобы он выехал, он же и с хозяином проблему уладил на месте. А в ментов я не так уж и врезался, ну – символически тюкнул бампером о бампер, они даже поняли меня и отпустили бесплатно – такое я изобразил им отчаяние. Это ведь не ГАИшники были.
Мастер убедил меня бросить институт, из общаги меня выписали, и мне нужно было прописываться в Симфике, чтобы там получать права. Взял и поехал. Пил только что появившуюся в стране кока-колу, о которой мы так мечтали в юности, слушал мафон и пёрся в полный рост от происходящего, совершенно не сознавая, что являлся камикадзе, не ведающим, что творит. Перед выездом уже из Москвы я возле шиномонтажа прочертил длинную чёрную полосу по новенькой белой шестёрке (как всегда, задний ход), но никто не заметил. Дальше всё было удачно, хотя я и гнал 120-130, один раз, обгоняя КАМАЗ, чуть не столкнулся с панически замигавшей фарами «Нивой», но КАМАЗ вовремя пропустил меня, в зеркало заднего вида я увидел, как он пылит по обочине.
На трассе Джа сохранил меня, но когда я, полный триумфа, въехал в свой город, я, несмотря на поздний час, направился к своему однокласснику Паше, нет бы домой ехать. Мы раскурились с ним по такому случаю, и я поехал домой по Воровского, не зная ещё, что эта, такая широкая в начале улица, в конце из четырёхполосной резко и без предупреждения становится двухполосной. Как раз в этом месте меня ослепили встречные фары, и когда я увидел несущийся на меня бордюр, было поздно. Вышел, посмотрел, запер машину и пошёл к Паше. Чтобы не будить его родителей, я вылез на крышу (Паша живёт на пятом этаже хрущобки), свесился с края и стал кричать над его окном. Паша долго не мог сообразить – голос мой вроде глючится, да ещё так явно, а меня под окном тоже вроде явно нет.
Такие неутешительные истории о своём водительском опыте я рассказывал Оле с Мышей.
В Днепропетровской области я вдруг заметил, что дорога зелёная, и тоже засомневался, не глючит ли уже меня. Но Мыша подтвердил.
Позже мы узнали, что согласно каким-то там разработкам зелёный цвет асфальта успокаивающе действует на водителя. И действительно, после Новомосковска я стал то и дело проваливаться в непреодолимую сладость, бдящий Мыша толкал меня, я с ужасом врубался и мобилизировался. Ещё и знаки то и дело то 60, то 40, а когда ползёшь с такой скоростью по совершенно прямой односторонней автостраде, это так убаюкивает. А нарушать я не хотел, и так уже попался три раза, на штрафы денег ушло больше, чем на бензин, последний раз, в Перещепино отдал 10 баксов как раз за знак 30, рубли уже кончились, на таможне пришлось даже просить у Мыши 15 тысяч, а гривен ещё не наменял. Позже я разобрался, что мусорам за знак хватило бы и трёх баксов, но всё равно таких купюр у меня не было.
Позади уже поднималось солнце.
Ночью, без прохожих дом Парфёна мы бы ни за что не нашли.
В рекламном фотоальбоме, вручённом мною Оле, был обязательно и Парфён, фото позапрошлого лета, когда мы с ним познакомились.
В то лето ко мне приезжала Риша. С ней я познакомился ещё прошлым летом, и каждый раз, когда в письмах звал её снова в Крым, точно указывал, когда именно в Крыму будет Инка. Я не врубался и думал, что она как Скорпушка Элен из Питера, а она оказалась Козьим Рогом – приехала на другой день после Инки. Я встретил её на вокзале и хотел было сразу отправить автобусом в Феодосию к Славику (Вождю) и подкатить с Инкой и Филей следом. Но пока дожидались автобуса, мы курнули, и её как бы зарубило, так что пришлось выносить её на руках из автобуса, пока не поздно, сдавать билет и везти её к Инке – по прошлому лету они уже тоже как бы знакомы, поедем в Феодосию вместе, раз так.
Хотя всем всё понятно, дружно делаем вид, что всё не так, как на самом деле, а просто так. Инка даже всё больше с Филей, предоставляя мне общаться тет-а-тет с Ришей, хотя порой и не могла сдержать разочарования. Кстати говоря, приехала Риша (что так характерно для юных самоуверенных тусовщиц) совсем без денег, и вся тусовка происходила на средства, привезённые Инкой.
А у Славика ещё и Ирен нарисовалась. Она на 4 года старше Инки и на 17 Риши, тоже Козерог, а Инка Телец – я Земля, я своих укрываю питомцев. И такой компанией мы идём на нудистский пляж в Орджо, мажем друг друга целебной грязью, гуляем вечером по набережной, Ирен танцует у цветомузыкального фонтана, бред полный, потом сидим в темноте на гальке у моря, голая Ирен героически купается одна, а Риша поёт под взятую у двух сидящих неподалёку герлов гитару, и это божественно. Между прочим, интересно – две герлы без чуваков на тёмном пляже, да ещё и с гитарой. А у меня и так уже три, вот не везёт. Ещё и Филя за нами таскается, ну это-то хорошо, пусть учится.
Мне на самом деле не столько поебаться хотелось с Ришей, сколько чтобы Славик записал её на 4-хканальник собственного производства. Я даже пытался это зачем-то объяснить Инке. «Ну я и не мешаю вам», - справедливо говорила она, но по Рише выходило, что мешает, и я психовал, Инка психовала в ответ, а Риша наблюдала нас дураков. Ирен устала и съебала куда-то.
Утром, на которое мы запланировали отправиться на море с ночёвкой, Инку вдруг колбаснуло – распухло горло, температура, и это летом. Я был убеждён, что это они с Ришей обменялись ведьмаческими ударами, и неопытная молодость победила, не зная ещё, что в таких случаях это поражение.
Славик с Ришей убедили меня вызвать «скорую», а когда я вернулся с почты, где был телефон, Инка была в бешенстве: «Санитарам сдать меня хотите! Сам же, Фил, говорил, что это западло!», выбежала из квартиры, я догнал её у соседнего дома, трогательная была сценка. Я сходил на почту и отменил вызов, после чего Инка как бы сама нас выгнала: «Всё, что мне нужно для выздоровления – это остаться одной!», чувствовала Ришино колдовство. Риша тогда как раз тёрла мне про какую-то оккультную группу, в сборищах которой она принимает участие, ещё упоминала про некоего своего личного бенефактора, прямо вот именно такой термин, как раз сейчас запретившего ей трахаться, чтобы накопить энергию, необходимую для какого-то группового сеанса магии.
В её возрасте я тоже играл в такие игры – при сопричастности искусствам это неизбежно. Очень любят разные бенефакторы присасываться к носителям божьих искр.
И вот, уже ближе к вечеру, мы с Ришей, Славиком и Филькой оказались на том же пляже в Орджо. Ещё в прошлый раз я обратил внимание на двух волосатых с герлами. Особенно внушительно выглядел хаер Парфёна – не какой-нибудь компромисс, просто оброс за лето, а конкретно ниже лопаток.
Мы поставили свою палатку чуть дальше. Вообще-то обычно волосатый, увидев других волосатых, подходит к ним и говорит: «Хаюшки! Ну как тут и чё?», но я всегда стесняюсь, мне кажется, что они какие-нибудь особенные, инопланетяне, оставившие на стенах домика в горах рисунки, поразившие меня в седьмом классе, когда мы с тренером ходили в зимний поход, - хаератые джинсовые парни и девушки, сидящие на огромных цветах или покидающие, взявшись за руки, задымленный город. Ещё там на стене был написан стишок «мы хиппи, не путайте с happy», который я сразу запомнил наизусть, сейчас-то я вижу, какой он на самом деле коньюнктурный и пошлый, хуйня полная, но тогда в меня запали слова «нас греют девчонки-дотроги, покорные будто гитары». О дотрогах-то я и мечтал, и вот, оказывается, где их можно встретить. Да ещё и гитары, и «покорные»! А ещё более ранний завет – «Бременские музыканты». Собственно, я каждое лето ищу и успешно обрящиваю «нашу крышу небо голубое», но почему-то – может, безупречности не хватало или чего-то ещё – так и не смог пробраться в их, как они сами называют, систему. В которой флэты, вписки, все друг друга знают. Меня тусовщики всегда спрашивают: «А, из Симфика? А Ришелье знаешь?» – «Конечно», - отвечаю я, и это правда, хотя находился я с ним в одной компании около получаса двадцать лет назад, зато уж так наслышан. Что за Ришелье? Он ничего не написал, не сочинил, просто такой вот знаменитый тусовщик. Сейчас, говорят, живёт во Франции.
Потом я узнал, что Парфён с Кокой такие же, как и я, никого не знают, только моложе, Тигры, как и Риша.
У нас было пару пузырей рислинга, мы приступили к дегустации. Хаератые у своего костра запели.
Как классно поют! – изумилась Риша, взяла гитару и тоже спела. Пока я не услышал Олю, я не слышал никого волшебнее Риши.
К нам сразу подошла герла и позвала пить водку «Калинка».
Эта ночь – единственное по-настоящему кайфовое изо всего, пережитого мною в то лето. У Парфёна с Кокой получался очень красивый унисон, гитара переходила к Рише, стаканчики наполнялись и опорожнялись, а Славик на другой гитаре ковырялся в аккомпанементе.
Ясное небо, полная луна, а над морем на горизонте узкая черно-синяя полоска облаков, и в них всю ночь салютуют зарницы.
Мы уснули с Ришей на песке обнявшись. Под утро подул стойкий ветер, понёс через нас целлофановые пакеты и прочий мусор.
Знакомство с Парфёном я потом упорно и последовательно развил.
Дом Парфёна, а вернее – родителей его свежей жены, оказался на самой окраине Левобережья (центр города на правой стороне). Сам Парфён из Светловодска, это такой городок выше по течению, уникальный, со слов Парфёна, тем, что при 50 000 жителей там существуют десяток или два групп, и даже каждый год проводится фест на средства, что уж совсем невероятно, городского бюджета. Парфён перебрался в Днепр, как я в Москву, а Лимонов в Нью-Йорк. А Риша вот так и не смогла расстаться с родимым Воронежем. Впрочем, лично мне Москва сейчас уже поднадоела, а вот пожить некоторое время, не знаю как в Воронеже, но в Днепре – очень было бы мило. Люди спокойные и в основном приветливые, до природы рукой подать, да и сам город, не считая нескольких окружающих эстакад, совсем не урбанистичный, осталось в нём что-то одесско-дореволюционное. Да и эстакады не похожи на московские – пустынные, спокойные, несуетные. Иногда, когда совсем нет машин, от невостребованности этого, гигантского в общем-то сооружения, начинает казаться, что попал во вчерашний день и скоро появятся лангольеры. Явственно такое ощущение бывает зимой на крымских набережных. Монументальные немые следы ушедшей куда-то цивилизации.
Пассажиров я оставил в машине и пошёл на разведку.
Парфён охуел от счастья. Далеко не каждый умеет так радоваться встрече. В тусовках, и не только неформальных, при встрече непременно принято обниматься, а порой и целоваться, иногда с малознакомыми людьми, генсеки в застойные годы являли крайний пример такой имитации. Эти поцелуйчики в щёчку – а почему бы, например, не в жопу? В тусовках, имеющих иерархию, это выражало бы истинную суть отношений: при встрече отдать честь старшему по званию.
При встрече можно ведь и глазами всё сказать друг другу – если есть что. Глаза обычно прячут.
Лишь иногда, редко такие объятия бывают правдой. Часто – среди тех, кто сидел у одного костра. Но тоже не всегда, потому что кто только на костёр не забредает, особенно у тех, кто ещё только учится.
Оля, забегая вперёд, так и недопоняла Парфёна. Друзьями она считает тех, кто помогает ей делать клипы или иными способами пристраивается к льющемуся из неё творчеству. Она не знает (а может и не нужно ей этого знать), что стоит кранику перекрыться, и на хуй никому из своих друзей она будет не нужна (и их можно понять), а вот Парфён - всегда вот так по-настоящему обрадуется другу, что бы у того ни случилось.
Он ждал нас (меня неизвестно с кем ещё, я хотел сделать сюрприз) всю ночь, рубанулся только под утро, но сразу пришёл в себя. Заскочил только в ванную плеснуть на фэйс воды.
- Фил, ты видишь, мой хаер опять длиннее, чем у тебя, - в прошлом году Парфён по пьяни обрезал свой хаер ножиком.
- Ну, я пойду приведу остальных?
- Та ты шо, подожди, я ж с тобой!
Натягивает джинсы.
- Ну вот, - представляю я внизу, - это и есть Парфён. Это Мыша, а это Оля.
- Оля? Случайно не Алтуфьева? – иронизирует Парфён.
- Она самая, - пожимает плечами Оля.
- Та ладно, ты гонишь… Не, чё, правда что ли? – поворачивается он ко мне.
- А что, не похожа?
- Ну мало ли кто на кого похож…
Две кассеты «Титаника» я подарил Парфёну прошлым летом. Он уже давно был наслышан, но кассета до Днепра ещё не дошла – Парфён торгует кассетами с лотка и в курсе всех новинок. Я сам перед самым отъездом в Крым наткнулся на Горбушке на эту кассету, хотя всегда везде спрашивал. За год до этого я после Парфёновской рекламы точно так же спрашивал везде Чижа и раздражался, что ботва везде одна и та же, а настоящего в наличии не имеется.
Это была запись их единственного тогда компакта. А другой записи, с которой и началось моё с Олей знакомство, он обрадовался ещё больше: «Это же зальник! – кричал он присутствующему при дарении Антихристу. – Ты врубаешься, что такое зальник?» Компакт – это всё же тираж, а зальник – бутлег, раритет.
Когда потом после Крыма мы с Галкой впервые посетили Днепр, он подарил нам две очень прикольные куклы, изготовленные каким-то его другом, хохла и хохлуху, на которых нарисовал пацифики и написал свой адрес, а также «Титаник», «Раста – это классно», «Удивись мне», «К.О.Т.», «Не время любить» и прочие лозунги. Пацифики были нарисованы у хохлухи на сиськах, а анархия – у хохла на носу. А «К.О.Т.»а мы с Галкой услышали впервые тоже у него и сразу прихуели, даже «Титаник» как-то отошёл на второй план, и Парфён подарил нам кассету.
Сейчас, кроме живой Оли, я привёз ему кучу аудио и видео подарков и среди них – ту самую запись «Комитета», но уже студийную и с оформлением.
Хохлуху я подарил Севе на бёсдник. Типа детям. Типа жене – книжку Малахова, а самому Севе – кассету с записями Парфёна, Риши, Славика, Свиндлера, моих друзей.
Парфён бескорыстно и радостно принял нищего волшебника Фила прошлой осенью. Летом волшебник вернулся и привёз небывалое чудо – Олю Алтуфьеву во плоти.
Хорошо хоть иногда сказки сбываются. А может и всегда – если действительно бескорыстно?
Оля, очевидно, почувствовала, что её используют в качестве сказки, экстраполировала дальнейшее и была очень недовольна.
Пока мы умывались (лично я принял душ, не знаю, как остальные), жена Парфёна Наташа, душевная девчонка с беременным животом, собрала на кухне на стол, а Парфён выставил из холодильника то, о чём я мечтал всю эту ночь, а может и весь год – пару пластиковых пузырей разливного днепровского пива. Закусь оказалась в самый раз для моих пассажиров – не знаю, постная ли, но сугубо вегетарианская: жареные кабачки с чесноком, огурцы, помидоры. На пиво Оля поморщилась, однако выпила стаканчик, но когда Парфён, ухмыляясь, вытащил из холодильника портвейн «Бахчисарай», Оля возмущённо удалилась спать. А Мыша поддержал компанию. Оказалось, когда Оля не видит, он и выпить вполне не дурак, и даже сигарету может закурить. Может, даже колбасы съесть?
Когда я возил Олю по Москве, я героически не курил по часу и более, пока не выйдем из машины.
Но в начале вояжа я нижайше попросил некурящих Дев соблаговолить потерпеть моё недостойное курение, со всеми извинениями и совершенным уважением.
- А не хочешь ли ты хотя бы на то время, пока ты в Крыму, бросить курить? – спросила Оля неприязненным тоном.
- Вот этого, гражданин Гадюкин, вы от меня никогда не добьётесь, - наотрез отказался я.
Этот прикол я знаю, мама у меня тоже Дева. Не только курить, но и ганджа дуть я собираюсь при случае, и портвейн пить, и дрочить по необходимости. Я некрещёный, и я давно уже иду вслед за Джа, и я не изменник. Крещёный индеец – это как обрезанный христианин.
Парфён достал ещё батл «Бахчисарая», а потом стал собираться на работу, продавать кассеты.
А мы классно рубанулись.
Под вечер я проснулся, совершил ритуал – разминка, яйцо, чай, сигарета, дабл, душ, линзы – и улёгся с местной газеткой на балконе, пока не очухаются пассажиры. Солнце садится, ветерок, ещё не так тепло, как в Крыму, но уже не такой душняк, как в Москве.
Пришли с работы пэрэнтсы Наташи, милые, приветливые и ненавязчивые люди, указали только ей, чтоб покормила нас получше, и уселись в своей комнате перед ящиком. У них, кстати, два ТВ и два видика – в их комнате и в комнате дочки. По ходу мы посмотрели старую запись Парфёна со Светловодского феста, любительского, разумеется, ужасного качества, и группа играет как попало, и что там поёт Парфён, не разобрать. А покормили нас украинским борщом без мяса и макаронами – а может, Наташины родители тоже постятся? Я, впрочем, и от предложенного паштета не отказался.
Наконец кое-как выдвинулись на прогулку по городу.
Переехали мост, проехались по памятным местам («вот здесь меня в менты забрали»), бросив тачку, погуляли по парку Шевченко, посидели у воды на острове в месте, которое Парфён называет Шотландией, омочили ноги в Днепре, купаться в предвкушении моря мне не захотелось. Молодец девчонка – через неделю рожать, а она ходит с нами всюду, на флэту потом зависает. Инка за неделю до родов приезжала ко мне в Питер, спала на боку на моём ложе, которое мы называли плотом за то, что собран он был из разнокалиберных досок, сотрясающихся и иногда разъезжающихся при трахе – не люблю общажные панцирные сетки, да и кто их любит?
Оля уже врубилась, что сегодня мы в Крым не поедем, и нервно спрашивала меня, куда мы собираемся двигать дальше.
Я понятия не имел, но я доверял. Разумеется – на флэт. Там хорошие и милые люди – хорошие потому, что любят волосатых, вроде Парфёна, а значит не могут не стараться хотя бы любить рокенрол вообще и Олю в частности, а милые – уж всяко тем, что молодые, кроме того тонкий нюанс в том, что вся тусовка с хохляцким акцентом и местными прихватами.
«По флэтам я и в Москве могла сидеть», - раздражённо сказала Оля. Она давно привыкла сидеть за столом только с избранным закулисьем, и ей не хотелось возвращаться в зрительный зал. Страшно далеки они от народа, я и сам из тех, кто народа по возможности сторонится, но с годами учу себя быть терпимее и терпеливее.
Вечер и впрямь получился скучным и даже тягостным. Все ждали Парфёна, а его всё не было.
Началось всё с упоминавшихся мною положняковых обниманий, которые я всегда исполняю через силу, но на этот раз – не без позирования перед Олей: вот, и у меня есть люди, которые радуются мне (для меня для самого загадка, почему они так мне радуются).
Обнимался я с Кешей и Славяном, остальных видел впервые. «Кеша, братела, - приговаривал я, похлопывая его по спине, - на одних нарах валялись». Кеша польщённо ухмылялся. На нары он попал за то, что пытался защитить меня от ментов. А Славян выручил нас с Галкой деньгами, чтоб мы до Москвы добрались.
Вышли на балкон покурить, как обычно – дай попробовать твоих козырных (мой обычный «Бонд», а у них принято курить местные, когда-то козырной считалась моя «Ява»). Ну рассказывай.
- Пойду схожу с пацанами за бухлом, - отчитался я Оле.
- А нужно ли? – пронзительно глянула на меня она.
- Ну… так уж здесь принято, - сказал я с умным видом.
Подыгрывая ей, оправдываясь. А на самом деле – не просто нужно, а необходимо! Ну спой так, чтоб все опьянели без вина – ты ж не хочешь. Зрителям – понятно, а вот просто тем, к чьему костру присела.
Выйдя на улицу, я обнаружил, какая свобода и лёгкость – оказаться вне Олиного осуждающего поля. Как от бабушки сбежал, то есть от мамы. Можно материться, прихлёбывать прямо на улице из горла пиво, не думая о том, нравится ли ей происходящее.
На ночном самодеятельном базарчике литровый пакет прекрасного крымского винчика[5] стоил у бабулек всего две гривны ($ 1,1). Чейндж ещё днём меня водила делать Наташа. Пацаны предложили взять ещё на всякий случай водки. Я согласился, а потом, подумав, взял дополнительный к уже взятым пакет винчика.
- Да куда столько?
- Ну на всякий же случай.
Пиво на ходу мы пили уже позже, отогнав машину на платную стоянку – целых две гривны, но мне захотелось прокатить пацанов хоть немножко.
На флэту расселись на полу вокруг тазиков с угощениями, только Оля оказалась на диване – как всегда на троне. Нет, Оля, не увидишь ты такого на московских флэтах – тазик кабачков и тазик салата, и пахнущий летом тёплый волшебный ветерок с балкона.
Положение спасал Славян – без конца травил анекдоты. Оля постепенно оттаяла, попробовала вино (разве можно отказать Славяну?), тоже рассказала пару анекдотов.
Я сам, ещё когда жил в общаге, не любил порожняковых тусовок, не задерживался в таких гостях и боролся с этим в своей комнате. Я тоже занятой, не меньше Оли, у меня нет записей и концертов, но есть печатная машинка, да просто книжку почитать – интереснее, чем с большей частью сограждан общаться. Инкина мама называет меня роботом, а Инка упрекает меня так: «Ты совсем, как твоя мама, которая командует себе: Филюкова! пора включать телевизор, и смотрит «Время», не слыша, как кричит грудной Филя и подгорает картошка. А как она после визита двух Севиных дочек (в данном случае Сева – мой старший брат) сокрушается: сколько времени зря потеряла! Раз в год приходят родные внучки, а у неё нет на них времени» – «Так голимые внучки-то, - возражаю я, - а время она на них всё-таки потратила». Пустые, как сказал бы дон Хуан.
Я понимал Олю и мучался больше, чем она – за неё. Мне-то давно всё по фигу, с тех пор, как проснулся среди ночи и понял, что всё идёт по плану и бывают такие заполнения ожидания, а не отбудешь достойно этот срок здесь – так гляди, как бы не пришлось в другом, гораздо менее приятном месте.
Христос твой, думал я про Олю, исцелял любых, кто ни попадался на пути. Ты думаешь, воздерживаясь от вина, приблизиться к Нему? А нам вот только вино и помогает – открыться, стать собой, возлюбить любого, а не только заслуженного. И мне так жаль, что тебе и оно, похоже, не помогает.
Я думал – будет сэйшен. Парфён споёт Оле и наоборот. И поскольку будет публика, то как же без вина?
И я не виноват – против знамения не попрёшь. А знамение для Парфёна, как выяснилось утром, заключалось в следующем: с осени он ждал, когда же его позовут разгружать какое-то там фирменное пиво, и как раз в эту ночь его позвали в первый раз. Столько ждать, спрашивать, напоминать – и вдруг отказаться? За эту ночь он заработал столько, сколько ему платят за продажу кассет в месяц. А за песни ему не платят, не то что некоторым.
Я не помню, как вырубился и перестал контролировать, как там чувствуют себя мои пассажиры. Они, конечно, определились и сами.
Рано утром меня разбудил Парфён, он принёс пива, фирменного, крутого, пришлось с ним пить. Опять оправдываюсь – да почему б нет? Это ж такой кайф – проснуться с бодуна, когда всё так трогает и ты такой ранимый, и хапнуть классного пивка с Парфёном на кухне. Парфён и без вина такой открытый до беззащитности, что так приятно хоть выпить с ним, хоть что угодно. Хоть и Козерог… видно, Тигр перевешивает.
Кстати, Христос – тоже, получается, Козерожка? И… так, посчитаем… Обезьяна? Интересно, а кто Иуда? Не Дева ли?
Прошлым летом, когда Парфён с компанией расположились в Орджо на том же месте по соседству с нами, он с утра явился в нашему очагу, возле которого мы установили большой камень – стол, и по кругу сиденья из плоских камней поменьше.
- А я не один, - сказал он, таинственно ухмыляясь.
- В каком смысле? – не поняли мы.
Он вытащил из-за пазухи пузырь водяры.
- С утра? Водяру?!!! – изумились мы, но разве можно отказать Парфёну?
И оказалось – ништяк. Поменять распорядки, это называется. Начинающее припекать солнце, море рядом, если чё, и мы ведь ничем сегодня не загружены. А Парфён поёт нам наши любимые песни – «Наша крыша небо голубое», «Всё идёт по плану»…
Проснулись пассажиры, и Оля сразу наехала на меня: почему мы всё ещё здесь? Когда наконец выедем? Ты обещал море! Сколько ещё это будет продолжаться? Видно, с утра её, как и меня, преследует психопатия. Так наехала, что я, чувствительный с бодуна, решился нарушить свой зарок – не садиться за руль пьяным. Ехать? Прямо немедленно? Ну ладно. А запах? Как-нибудь обойдётся. Вот только не выспался. Но уж ладно.
Когда я успешно приехал со стоянки, на перекрёстке как раз стоял мусор, но обошлось – Оля с Мышей уже выпили чаю, и мне разрешено было поспать ещё немного. Я, правда, окончательно разгулялся, но если надо, значит надо – хоть просто отлежаться, чтоб запах выветрился, а там и заснул.
Проснувшись, я обнаружил, что задуманный мною сэйшен начинает организовываться. Наскоро приводя себя в бодряки по обычной программе, я обрадованно вспомнил, что Парфён принёс мне утром классную шишечку, сам он не пыхает, но specially for me где-то надыбал.
Тут на кухне появился Кеша, и я с тоской вспомнил, что мне предстоит неприятный, но неизбежный разговор. Вчера я по-пьянке согласился взять его с собой. Он вдруг попросился, а я беспечно ляпнул, что почему бы и нет.
Вообще-то ведь Кеша хороший, хоть и ничем не выдающийся. И я взял бы его в кругосветное плавание на шхуне, возможно, гораздо охотнее, чем многих самолюбивых талантов. Но сейчас я думал об Оле, для которой Кеша – никто, не поёт, не пишет, полный зироу.
У меня дома лежит кассета «Чёрного Лукича», которую я купил только потому, что читал, что его записывал когда-то Летов. Я даже не дослушал эту кассету до конца и больше никогда не ставил – это не моё. Когда Кеша приезжал в Москву на заработки, пили мы с ним и с Галкой водку, и он поставил эту кассету. И так он от неё пёрся! и так удивлялся, что мы с Галкой сидим в непонятке, что потом я специально много раз подряд прослушал эту кассету – и меня вставило! Неохота сочинять рецензию, факт тот, что я понял Лукича, проникся – и только благодаря Кеше. Хотя в конечном счёте любимой с этой кассеты осталась только одна песня – но и то.
- Ну что, когда едем? – спросил Кеша.
- Знаешь, Кеша, - я не мог подобрать слов и говорил что попало, - я тут подумал… что здоровье Оли мне всё же важнее…
Кеша сразу всё понял по моей интонации. Потом уже я вспомнил, что можно было бы резонно спросить, куда он и как поедет, когда к нам в Симфике присоединятся Мишельки. Но я не успел привести никаких аргументов – Кеша сразу смущённо и невнятно пробормотал:
- Ну ясно… ну да… ну я всё понимаю… - и, стараясь не показывать, как обломился, удалился.
А я пошёл «проверить машину». Солнце уже раскалило её, мафон торчал на месте, только сейчас я вспомнил, что не вынимал его, потому что машина была на стоянке, а потом потому что собирался сразу уехать. Двор был ярко освещён, и прохожих не было. За неимением папиросы я вытрусил табак из половины «Бондины», потом отломил кусочек от спрессованной шишечки. Трава была салатно-зелёная, молодая, неужели уже этого года урожая? или так хорошо сохранили? Разминая её, я понял, что она безусловно прошлого года – не может трава в самом начале июля быть такой клейкой, смолистой, пахучей, разве что в августе и только если специально выращивать – а шишка, сразу видно, была не дичкой, а хорошей культурой.
Салон наполнился сладким, греховным, стрёмным духаном. Из подъезда вышел Кеша, заметил, по-моему, чем я занимаюсь, но сделал вид, что не заметил. А я не стал его звать – я собирался внимательно прочухать ганджа сам-на-сам. Кто по этим делам, у того должна быть своя, хотя бы бывать. Это ведь не для всех – как и гомосексуализм, например.
Кеша удалился. Так обломался, что даже песен не стал дожидаться. Больше никого не было, только в зеркальце заднего вида были видны две играющие девочки в глубине двора. Я закурил.
Всем врубающимся в эти дела известно, что трава тем лучше вставляет, чем дольше перерыв. А ещё – и это известно уже только знатокам – чем она неожиданней, незапланированней. Когда она всегда есть на кармане, прикуриваешься даже к самой лучшей. Если она действительно хорошая, то физически она продолжает вызывать кайф, хотя, если пыхать слишком часто, при любом качестве травы кайф неизбежно будет всё менее продолжительным.
И только после перерыва и особенно – когда это случилось нежданно-негаданно – тогда можно вдруг раствориться во всеобъемлющем восторге, до самых запредельных глубин своего существа проникнуться счастливым озарением, как же всё-таки, если приглядеться и вспомнить, прекрасна жизнь и всё сущее. От глубокой алкоголизации тоже иногда бывает такое озарение, особенно после опохмелки при запое, но иное по настроению, не однозначно позитивное, а с оттенком печали, да и физически ощущаешь в себе немощь, а не мощь. Впрочем, у кого как.
Салаги, желающие казаться крутыми, бывает, торопливо затягиваются, шумно засасывая с дымом воздух, я же смаковал, бережно втягивая и задерживая самый мой любимый в жизни запах, осени и грусти, и скорой зимы, и грехов при задёрнутых шторах. С первой же затяжки почувствовал, как разливается тепло в солнечном сплетении. На половине сигареты, когда травушка уже кончилась, кайф заполнял всю мою грудную клетку и сладко ныл в районе кобчика, то ли в яйцах, то ли в жопе. Кайф сладко легонько покалывал ноги, и в голове стало тоже просторно, светло и солнечно.
Всё вышесказанное о кайфе ганджи после перерыва можно в равной степени сказать и о сексе. И только рокенрол всегда…
Не забыв вынуть мафон, я вернулся на флэт. Что я курнул, никому и в голову не пришло, никто и не приглядывался, да и мало ли какой я с бодуна. Все собрались почему-то на кухне, видно, так само вышло, и хотя рядом были две пустые комнаты, все боялись, очевидно, спугнуть завязывающуюся магию. Между столиком и плитой на стул у окна втиснулся Парфён, у ног его на полу умостился Мыша с мандолиной, я протиснулся за него и спрятался за холодильником, присел между ним и мойкой на мусорное ведро. У противоположной стенки в углу была Наташа с животом, рядом Оля, у двери герла, имени которой я не помню, а в коридорчике возле санузла на полу пристроилась хозяйка флэта Инна. На кухонном столе Парфён установил мыльницу, чтоб записывать Олю, а Оля потом достала свой купленный как раз перед поездкой диктофон, чтоб записывать для себя Парфёна. Она готовилась в поездку, как Шурик на Кавказ на поиски фольклора, отметил про себя я.
Парфён сам песен не сочиняет, но чужие поёт иногда, как мне глючится, лучше оригинала. У Парфёна сурово очаровывающий мужской сильный голос, и есть свои, отличающие его манеру, интонации, уходящие в народ, разумеется, неизвестно только, в какой народ. Репертуар у Парфёна тот самый, что нужен волосатой тусовке у костра, желательно с водкой – БГ (которого в Парфёновской манере только по словам и можно узнать), Чиж, Летов, Ревякин, «Аукцион», по заказу может и что-нибудь из «Крематория», Майка, СашБаша. Особый колорит – «Браты Гадюкины», ВВ, светловодские группы. Недавно разучил «Комитет», а вот Олю, как ни странно, так и не стал разучивать. Аккорды он подбирает сам, а поскольку иногда подбираются не те, то вслед за ними меняется и мелодия, при этом неуловимо, чем же именно, а из-за Парфёновского голоса кажется, что так получается даже лучше.
Бесспорный всеми признанный хит Парфёна – «Жёлтый дом (никто не виноват)» неизвестной кировоградской группы, с его слов, а я подозреваю – не он ли всё же сочинил и скромничает? Оля даже попросила у него разрешения спеть эту песню со сцены, хотя в итоге петь её так и не стала.
Дальше я упал в любовь и падал всё быстрее и глубже. Я совсем спрятался за холодильник, опустил голову, потому что слёзы так и рвались из моих глаз, я до крови кусал губы, но ничего не мог с этим поделать. Да и не хотел, ведь это был кайф. Я представлял себе бедного Парфёна, разыскивающего в своём захолустье позывные иной жизни. Да и Оля бедная, выбралась с Урала, ютится по углам. И кристальный светлый Мыша. И все хипаки у всех костров. И Инка с Галинкой, моих детей растящие, и до такого одинокого Фили добрался, и до Маши, беспомощного недоношенного комочка… И надо всем этим тотальное счастье от того, какое таинство воплощается в явь между Олей и Парфёном, ведь я же вижу, как преобразилась Оля, только сейчас она вдруг из тёти Оли стала той недостижимой, парящей выше всех сует принцессой, которую я когда-то услышал (а может и королевной), а уж о Парфёне-то я всё знаю. В такие моменты я вижу, что у ханжей, превозносящих духовные кайфы над принижаемыми плотскими, есть всё же для этого реальные основания.
Когда через несколько дней на Трахкранкурте я посчитал уместным поведать Оле об этом посетившем меня изменённом сознании, и даже в слезах я вскользь признался – Оля взглянула на меня, как мне показалось, впервые с неподдельным интересом:
- Надо же, какой ты, оказывается, чувствительный, - сказала она, пристально и недоверчиво в меня вглядываясь.
Наконец я устал сдерживать этот кайф, выбрался в коридорчик и улёгся на полу рядом с Инной. Мне хотелось, чтобы этот переполняющий восторг хоть слегка подотпустил, стёк с меня в землю.
Попутно я приглядывался к Инне. Вчера в пьяном вдохновении я говорил ей, какая она красивая и т.д., подлавливая её без тут же где-то тусующегося мужа, поразительно невзрачного, таких я не умею вспоминать. При всей своей невыразительности он увлекается, как и она, спелеологией, когда-то они были студентами и лазили по пещерам, теперь – дети, он пашет. Инна поразила меня тем, что провела как-то раз два месяца на глубине полтора километра – вот это я понимаю! (Интересно, как они там срали? А подмывались как? Трусы-то хоть меняли?) Услышав об этом подвиге, я пригляделся и увидел – симпатичненькая, худенькая, чёрная, личико интересное, волосы длинные и прямые, впечатляющие. Держится с горделивым достоинством цыганки.
Я ощутил вдруг с трудом преодолимую тягу к ней. Нет, не поебаться захотелось, а просто как-то потянуло к ней, захотелось погладить её, прижаться, с трепетом, не веря происходящему, заглядывать в глаза, говорить ей глазами, чтоб не боялась, чтоб поверила.
Вот так я устроен. Да и не я один, просто я признался, разоблачил себя перед собою, проследил и сделал вывод, что вот, значит, бывает и так, во всяком случае у того биоробота, который мне достался. Оля – всегда, Инна – сейчас, и независимо от того, что Оля рядом.
Инна почувствовала моё поле, это было видно.
Но предначертанное завершилось, и настала пора двигаться дальше. Все вышли нас провожать, захватили фотоаппарат, чтоб сняться рядом с Олей, она тоже достала свой, я тоже достал.
Парфён в то лето что-то раздобрел, Наташа откормила после пьянок по общагам. Мыша очень представителен с бородой и длинным, потому что прямым, хаером. Оля изящна, горда и величественна, на ней чёрные шорты с заклёпками и бахромой и чёрная маечка без рукавов, на запястьях гроздья фенечек – это у андеграундных магов, как перья у индейцев. На мне джинсовые шорты чуть выше колена и майка «Всё идёт по плану», башка Летова прожжена кропаликом – «сквозь дыру в моей голове».
И снова трасса. Осталась меньшая часть пути. «Я сделал это!» – кричал я по телефону Гале из Днепра косноязычную фразу из американских фильмов. Я сам себе поражался – сутки за рулём. Теперь до Симфика оставалось часов 7-8 по тёплой ридной нэньке Украïне, мимо изобильных базарчиков со смешными, если переводить с гривен на рубли, ценами. И Оля, кажется, уже больше не сердилась из-за израсходованного в Днепре лишнего дня.
С каждым днём в то лето я вёл машину всё уверенней.
3.Smoke on the water
Я продолжал блаженствовать. Оля нашла новую удобную позу – положила свои длинные ноги между передних сидений на ручник и коробку передач. На коленях она держала гитару, тренькала и что-то напевала. Представляете – под правым локтем ноги Алтуфьевой, и она то ли репетирует, то ли сочиняет. Внукам рассказывать буду. Если, конечно, не от неё будут эти внуки.
Она пришла в восторг от местных помидор и особенно сметаны. Оказалось, что их сочетание – её самая любимая пища. Вы знаете, что такое украинская домашняя сметана? Похожая на масло, вязкая, ложка стоит, а в масло она самопроизвольно превращается через пару дней.
Ещё мы купили разных сортов черешен, каких в Москве не бывает. В новомодных супермаркетах чего только не бывает и, возможно, я ж не знаю, бывают и черешни, как и всё у них, очень красивые и эффектные, но как и всё у них – бутафорские. А не с обычного дерева, за которым даже никто не ухаживает, часто и собирать-то ленятся, так и склёвывают птицы.
В Крым въезжали в темноте. На Чонгаре перед постом ДАI («дай» по-местному) нас завернули замерять СО. Игор в Зелёнке выставлял мне 2%, неплохо для девятилетнего движка. Но оказалось, что в курортном Крыму свои нормы, и ребята в зелёной форме явно рассчитывали привычно навариться на нас.
Вспомнив таможню, я стал объяснять, что везу музыкантов, талантливых, но бедных, в общем, впарил таки им всё ту же концертную кассету, которыми Оля с Мышей удачно запаслись в дорогу, в обмен на талончик «СО-Крым», который потом много раз пригождался. Оля важно написала на кассете автограф, а экологи, как и таможня, тщательно и недоверчиво сравнивали фотографию на обложке с реальной Олей.
После подобных случавшихся в нашей дороге акций Оля всегда жаловалась: ну сколько ж можно работать, я раз в жизни решила отдохнуть, и опять целый день одна работа. Конечно же, не такими словами, но в таком смысле, где-то около того.
Буквально-то воспроизводить все слова, которые мы, путаясь, выговариваем – крайне утомительно, и прежде всего для читателя. В питерской общаге я одно время прикололся (как позже узнал, так уже поступал писатель из «Незнайки») тайно записывать на мафон посиделки в моей комнате, а потом перепечатывать на бумагу. Увиденное глазами было, во всяком случае, поучительным – так вот какова наша речь! – и при соответствующем желании эту абракадабру можно было и анализировать психоаналитически, и рассматривать как исторический документ, и даже мистические откровения там выискивать. Вот только почему-то сразу было ясно, что это не литература, даже не какая-нибудь авангардная нео-гипер-квази (там обычно всё же чувствуется, что высосано из пальца, чтоб выебнуться и всех наебать) – вот сам не могу понять, почему, но без сомнений было ясно, что это всё что угодно, но никак не литература.
Знаете ли вы, что начинаешь чувствовать, приближаясь к цели? Оля с Мышей приближались к концу утомившего уже переезда, я же – к дому, к лету, к истинной жизни. Не знаю, может, то, что для них является истинной жизнью, происходит на студиях, на концертах? Ясный перец, что тратить время жизни на зарабатывание калабашек или на любимое дело – не одно и то же, однако, если рассматривать любое занятие как повод для медитации, то что за машинкой сидеть, что двор подметать – одно и то же. Будни. Это о студии, а сэйшен? Это yes, это уже похоже на лето, и это может быть дорогой домой, и всё же… это искусство, искусственно, по взаимному договору…
В общем, Оле я, как она и хотела, удивился, причём как мало кто. И собирался со своей стороны тоже почитать стишки, вроде я тоже этим увлекаюсь и умею. Но больше всего я хотел показать другие какие-то свои кайфушки: искусство – это yes, но есть ещё просто… жизнь сама, что ли. Крыша небо голубое. Куда захочется, туда и двигаем, без расписания. Поём кому угодно – может, просто морю или окружающим вершинам. Произвели на меня в своё время впечатление ваганты и Тиль Уленшпигель, и так и живу – жду лета, когда можно пожить так, как мечтал, когда был маленьким, а в остальное время заполняю ожидание тем, что предлагают взрослые – то диплом весело вымучиваю, то трудовую книжку завожу, то стишками пытаюсь обратить на себя их внимание, то вот роман отстукивать начал («оперу» – есть такой анекдот).
Друзьям я обычно объясняю, как легко найти мой дом: сразу на выезде на Ялту после остановки «Марьино» стоит роскошная двухэтажная усадьба, не как сейчас у бандитов и прокуроров, а ещё по-застойному роскошная. Это епархия, так написано на табличке, а в народе говорят «дом попа». Так вот, а рядом, за тополями – мой дом, тоже двухэтажный, но обшарпанный, избушка на курьих ножках. Забор зарос ежевикой, иногда её кто-нибудь подстригает, но она сразу выбрасывает свежие ветки, и в кромешном мраке крымских вечеров на них натыкаются разными частями тела пробирающиеся по дырявому тротуару прохожие.
Когда мы подъехали, дом стоял тёмный и, очевидно, запертый. Я знал, что мама переселилась к Славке в дом его жены Сони по соседству, и с удовлетворением догадался, что Сева сегодня тоже отсутствует – живёт он тоже у жены, в городе, а сюда приезжает бухать, спасаясь от тёщи. Братья обижаются, когда я говорю им, что мы, и они, и я тоже – альфонсы и приживалки. Я-то в Москве, но они?
Следовало бы пойти к Славке за ключами, всё равно ж придётся загонять к нему во двор машину, да и с мамой нужно поздороваться. Но ведь это пришлось бы и Олю с Мышей с ними знакомить, тыры-пыры. Я как хронический шизофреник утомляюсь от этих напрягов. Легче перелезть через калитку и забраться в какое-нибудь окошко – когда я был маленьким, не было случая, чтоб я не нашёл, как влезть в собственный дом. И уже потом, включив свет и предоставив друзьям возможность располагаться, идти к маме, а познакомить и завтра можно.
Что я и сделал – запланированно и не задумываясь. И сразу был наказан за шизование – разворачиваясь, чтоб ехать к Славке, я своим любимым задним ходом въехал бампером в тополь. Та хуйня, подумал я и даже забыл, пока Сева на следующее утро не обратил моё внимание, а то я мог бы и не заметить, у меня часто бывает, что я вижу только то, что ожидаю увидеть.
Мама спала, и я не стал будить – разволнуется, не заснёт потом.
С Мишельками или с кем угодно ещё мы бы сразу побежали искать ночную палатку, а более вероятно – я бы припас по дороге. Но в компании Оли, сами понимаете, это казалось неуместным, мы просто запарили чайку, что-то там пожевали, я предлагал согреть кипятильником воды, но ребята не хотели мыться – то ли стеснялись меня заморачивать, то ли действительно так хотели скорее в постель.
Ну и ладно. Наконец я один и могу со всем поздороваться. Я вышел во двор, посмотрел на звёзды, на тополя, моих старых друзей. Вернулся на кухню, сделал косячок, вернулся к тополям, присел на корточки, прислонившись спиной к дому, и вкусно пыхнул. Светлые на фоне ясного неба высоченные тополя, как всегда, перешёптывались, и я тоже что-то прошептал им.
А потом пошёл в огород и сдрочил куда-то на помидоры – даже и не с таким уж кайфом, более с юмором к торжественности минуты, и во всяком случае с облегчением. Сперва я вспоминал днепровскую Инну, потом попытался представить Олю, но как-то не очень получалось, потом, как обычно, начала проноситься всякая порнуха, а кончил я, как часто в последнее время, на Галочку в паре с Инночкой.
В юности я слушался распространённой точки зрения и держался не дрочил до последнего, пока совсем уж невмоготу не становилось. Да и в более зрелые годы я старательно воздерживался от самоудовлетворения, если было кого ебать, хоть кого. Но потом я узнал много других точек зрения, общий вывод из которых вкратце – будь собой, в любом смысле. Лимону можно, а мне нельзя?
Утром я проснулся первым, чтоб не париться расшаркиванием с гостями. Когда я приводил себя в порядок, объявился Сева и спросил, что это у меня с задним крылом и бампером. И я пошёл с ним к Славке, решив, что гости сами разберутся, не маленькие.
Севка со Славкой с энтузиазмом бросились решать проблему своего братишки. Мне оставалось только топтаться рядом и наблюдать, как они снимают бампер, бензобак, стучат по крылу молотками. У Севы тоже была раньше пятёра, которую он в связи с экономическими катаклизмами и собственным алкоголизмом недавно продал, но бампер у него как раз завалялся.
Пока они возились, я включил в машине «Титаник» погромче. Севе очень понравилось «Куда пойти, куда податься», он сказал, что слышал эту песню ещё в конце 50-х. Разумеется, он заблуждался – не существовало тогда слова «герла», например. Хотя… оказалось же, что Вертинский знал слово «флэт». На всякий случай я всё же уточнил у Оли.
В разгар работ появились Мишелька с Элеонорой. Мишелька сразу ринулся помогать и тоже сразу понял, что достаточно сопереживания.
А тут и Мыша подошёл, ещё один помощник. Я познакомил всех.
Оля разгневалась, узнав, что сегодня мы опять не попадём на обещанное море. Хорошо хоть Мишелька сразу перехватил мою трудную роль увещевателя. Ну действительно – они с Элеонорой только с поезда, нужно же хоть в себя в Крыму прийти, да и как это – сразу ломиться на море, не посидев даже ни разу за столом с моими родственниками? Э, так не делается – и всё это с убедительным обволакивающим кавказским акцентом.
О-ох… опять работа. Вчера в Днепре выступала, сегодня в Симфике придётся.
Я опять понимал её, да и сидеть с братьями – вот уж чего не хотел бы. Если бы я был до конца последовательным в бытии собой, я поехал бы с Олей к морю сразу, хоть уже скоро вторая половина дня, хоть вечером – какая разница, когда там оказаться? Тем более с транспортом нет проблем.
Нужно было бы сказать Мишельке: а давай отметим твой приезд не здесь, а прямо сразу на берегу моря? Всегда так, а сейчас давай так – он ведь понял бы? А братаны – да успеем мы ещё сто раз посидеть с ними.
Это было бы интересней, и я признаю, что опять тогда поддался трафаретам. Это я сейчас отслеживаю свою небезупречность. Есть теории – ни о чём не жалеть. Жалеть, то есть испытывать чувства, возможно, действительно неплодотворно, хотя я всё равно убеждён, что очень человечно. Но анализировать свои проколы – нужно даже и с логически-материалистической точки зрения.
С другой стороны, вечером оказалось, что под крымским солнцем в машине скоропостижно сдох древний аккумулятор, и вот это запара была бы на Трахкранкурте… Да и вообще, кто сказал, что Олины планы – и есть самые безупречные?
К тому же Славка собирался покупать машину, был от этого в упоении (на самом деле Соня решила купить хоть какое-нибудь ведро, чтобы у Славки было увлечение плюс стимул не бухать; через два месяца после трёх столкновений и соответствующего возмещения убытков она решила, что спокойней, когда он бухает) и попросил меня съездить посмотреть по нескольким адресам предлагаемый металлолом. Это уж как бы святое, не только брат брату, но и водитель водителю помочь обязан.
Мишелька с Элеонорой поехали с нами, чтоб заехать на рынок – Мишелька, конечно, тут же вызвался угощать. Мыша тоже захотел покататься по Симфику, а Оля уже не помещалась и осталась дома дожидаться. Она прикололась к моим детским книжкам, особенно к Барто и Маршаку, я потом подарил ей его.
Кроме того, я дал почитать Оле кое-что из своих произведений – то, что касалось её лично.
В питерской общаге в первый же год перестройки я повесил на первом этаже олицетворяющий гласность деревянный щит, на котором общество могло бы самовыражаться. Для затравки мы (у меня были единомышленники, задумавшие свержение старого студсовета) сразу украсили его тем, что с приходом в нашу страну Запада стало называться красивым (как и всё западное для мучимого неполноценностью совдепа) словом граффити, хотя я лично ни разу ещё не видел, чтобы надписи на заборе или в лифте типа «хуй», «Цой», «Ельцин» были выполнены столь же художественно, как выглядят на фотографиях в журналах западные произведения этого искусства. В общем, мы стилизовали этот щит под стену подъезда, в котором живут пролетарские дети – мол, всем дозволяется делать что угодно, даже карандаш повесили на верёвочке. На этот щит я сначала прикреплял кнопками, а потом, чтоб не срывали, стал намертво клеить всё, что приходило мне в голову. Назвать я хотел всё это «Глас», но единомышленники сказали, что народу будет понятней – просто «Голос».
Революция удалась, я вошёл в состав нового студсовета и получил отдельную комнату. Очень быстро новый студсовет стал таким же, как и старый, я вышел из него, и «Голос» стал органом оппозиции и правды-матки.
После путча 91-го гласность уже всем приелась, толпа возле «Голоса» перестала собираться, и я перенёс его в свою комнату, постепенно превратив в него все стены, дверь и даже окно.
Кроме того, я всегда рассылал по почте свои последние наблюдения и размышления тем из своих знакомых, кому не лень было хоть изредка, хоть символически отзываться. С некоторых пор я стал предварять свои записки шапкой «индеепендент газета Глас». Тиражироваться, решил я, не обязательно, достаточно десятка избранных, которые, если посчитают нужным, дадут почитать своим избранным. Риша, например, так и не смогла понять, зачем я пишу ей не о своей любви к ней, а о незнакомых ей людях.
В «Контр-культ-ур»е я прочёл, что Оля тоже, ещё до Москвы и «Титаника», была автором какого-то самиздата. «А вот почитай мои автопубликации», - предложил ей я.
Индеепендент «Глас»
Апрель 96
(Этим шрифтом то, что читала Оля, обычным – мои комментарии сейчас).
Жизнь течёт от знамения к знаменью. Попался восходящий поток – взмыл, и опять планируешь. Всё идёт по загадочному плану, это не трёхмерная карта, которую можно положить в бардачок в машину. Ловись, знаменье, большое и маленькое, ты прекрасно, но не останавливайся, вот так, да, да… «От звезды к звезде, от пизды к пизде», - эпатировал когда-то собравшихся послушать поэта мой друг Джонни.
Очередное знамение случилось со мной, когда я приехал к Гале на флэт посмотреть “Yes”, который передавали по телевещанию.
Перезимовали мы у меня, без телевизора, я работал дворником за неофициальное, но вполне реальное жильё. Когда я, перебравшись в Москву, пресытился сожительством с Инкиными родителями (которые никак не могли взять в толк – жена ночует явно у мужиков, а ему хоть бы хуй – и задавали мне вопросы) и стал обходить московские ЖЭКи (вернее, уже ДЭЗы), надо мной смеялись: ты что, парень, давно прошли те времена, лимит был при застое, а нынче и жильё имеет цену, и москвичам лишь бы иметь работу, хоть и дворником.
Я вообще-то отчаиваюсь быстро. Для красоты можно было бы написать, что я обошёл жеков двадцать, но на самом деле и после третьего уже всё ясно. И тут знамение – отчаявшись, не знаю зачем, но взял и зашёл в жэк, который видно с Инкиного балкона – и как-то приглянулся технику, молодой девушке, симпатичной, если приглядеться, а если нужно, то можно и поприглядываться. Она устроила меня по Инкиной трудовой книжке и поселила в комнату, хозяин которой умер, а дом под расселение, никого уже не вселяют.
Дом был типа общаги. На каждом из четырёх этажей от балкона до балкона коридор, неоправданно широкий, треть, наверно, ширины всего этажа, по концам две кухни и два санузла. И много комнат. Этажи разгорожены пополам тонкой стенкой с дверью, общаг было две рядом, а я, для полноты знамения, попал в самую чистую и почти не вонючую из шестнадцати половинок. Жильцы всех прочих по возможности систематически бухали и характерно не обращали внимания на мелочи быта, вроде состояния плит, унитазов и пола в душевой. А у нас командовала завязавшая Танька (завязавшие – самые строгие). Сперва я показал ей себя работящим семьянином, которого навещают жена с ребёнком, то есть я-то ещё непонятно, волосатый, но Инка умеет произвести впечатление очень правильной женщины (к сожалению, с годами ей всё меньше нужно для этого притворяться).
Когда мы с Галкой приехали из Крыма и вместе помылись в душе, Танька пыталась было со мной воевать, но пришла Инка и объяснила, что всё в порядке, а потом Танька видит – мы все вместе уходим убирать участок, потом вместе ужинаем, а потом отводим Филю спать и остаёмся втроём, в коридоре слышно музыку, смех, уж не знаю, подслушивала ли она, что происходило потом. Махнула она рукой – нет, видно, так и не понять, ладно, пусть.
Мне мой флэт нравился. Как и при застое, в Москве по-прежнему можно найти на помойке вполне приличные матрасы от диванов, шкафы, тумбочки, стулья. Всё это я уже проходил, думал я в испарине, перемещая перебежками три матраса, - двоечник, как юность провёл, так и в старпёрство начинаешь восхождение, всё сизифишь. Который? – да, третий старт с той же точки.
И зеркало я нашёл, и кое-что из посуды, и много ещё чего, сапоги разные, джинсы. Мафон у меня был припасён, одно-кассетный «Панасоник», древний, зато родной, с неожиданно хорошим для его размеров низом, а вскоре я купил по объявлению в «Из рук в руки» колонки «Ямаха», деревянные, маленькие, но увесистые, в общем, чудные, если кто врубается. Аналогично приобрёл вертушку «Электроника 001».
Опять же вспомнил молодость и украсил стены, только теперь кроме “Led Zeppelin” висят “Red hot chilly peppers”, а у красавиц не только сиськи видно, но и пизду во всех подробностях – ну наконец-то можно, ну хоть раз-то в жизни пожить, как нравится!
В общем, Галка может подтвердить, зимовали мы уютно, весело и занимательно. Играли в нарды, бухали, пыхали, еблись, как хотели, устаревших знакомых принимали. Деньги я зарабатывал тем, что продавал газеты, журналы и карты Москвы водителям в автомобильной пробке на Таганке. Нарубил капусты и на оптовый – «Бренди для друзей» 7 тысяч, пиво, если упаковку брать, 1800 банка. За травушкой в Питер ездили, 60-80-100 за стакан. В день на картах Москвы можно было заработать в среднем 50-100, бывало по нолям и даже минус (мусора и бандиты), бывало и 300.
Весной по запланированному людьми распорядку расселение обрело реальность, но синхронно знамение из иного плана – вдруг оказывается, что мама купила Галке квартиру.
Когда мы смотрели “Yes” по ящику, Галка ещё только начинала ночевать там самостоятельно, а я приезжал к ней в гости, а она ко мне приезжала.
В магазинчике возле Галкиного дома продавался портвейн «Чашма», дешёвый, но очень вкусный, настоящее азиатское вино, пахнущее не виноградом, как черноморские, а изюмом. Из черноморских похоже пахнет «Сурож».
Знаете, когда напьёшься или когда только-только курнёшь, начинает вдруг хотеться кому-нибудь позвонить. А тут Инка мне недавно говорила, что ей звонила Ирен, видно, рассчитывала застать меня, но пришлось ей поболтать с Инкой, жаловалась на типа одиночество, Инка ей, конечно, говорит: так приезжай, оттопыримся, Ирен, ясно, комплексует, ладно, думаю, надо мне самому позвонить, узнать, какая она там сейчас стала. И вот Ирен говорит мне по ходу:
- А как там Мильёшка, ничего не слышал? Он звонил мне последний раз осенью, говорил, у него рак, а сейчас уже полгода не звонит, вот я и думаю, жив ли он ещё.
Мильёна я встречал год назад, я продавал газеты, а он сидел в кабине грузовика. Загорелся зелёный, он обещал звонить, только и успел. У него телефона нет, и живёт возле окружной на Можайском, а сам так Инке и не звонил – а оказывается, вот оно как.
- То-то ты так всё к нему рвался, - говорит Галка, потому что я действительно всю зиму звал герлов съездить к Мильёну, но как-то всё… ну сами знаете.
Из моих одноклассников больше всех повлиял на моё сознание Мильён. В моём классе была самая относительно стабильная на всю школу рок-группа: Свиндлер – гитара, Вождь – бас и Мильён – перкуссия. Играть на гитаре Мильён не научился, но энтузиазма музицировать у него было, пожалуй, больше всех. Вождь никакой идеологии вообще никогда не исповедовал, со стороны же он был похож на не появившихся ещё тогда постпанков (когда мы учились в школе, кроме хиппи никого ещё не было). Свиндлер, закомплексованный, старательно следовал внешней атрибутике хипаков – хаер, джинсы – но на самом деле всегда бравировал циничным глумлением над любыми идеалами (Дева), хоть хипаками, хоть коммуняками. Один Мильён был истово верящим хиппи, молился на “Uriah Heep”, школьную форму ушил до дудочек, замшевые шузы таскал до полных лохмотий, часто украшал речь и письма английскими словами, подходил во дворе на перемене к ребятам, жующим семечки, и говорил: «Дайте и мне попробовать вашей марихуаны». Он рисовал волосатых и джинсовых, солнце и цветы, он писал проникновенные либо мрачные верлибры – он имел веру и был моим учителем. Это, конечно, уже только сейчас я могу так трактовать, а тогда я просто любил “Shocking blue” и лично Вереш Маришку и любил всех, кто к этому хоть как-то близок, общаясь же с незнакомым с этим, пытался и его научить.
Когда КГБешники выгнали меня из керосинки, я как раз (знамение) за пару месяцев до этого был нанят репетитором к юному (после армии) туркмену Хутайберди и поэтому сразу из репетиторов стал гувернёром: его жильё, его продукты, да ещё 90 рублей мне за это платили, т.е. 30 дней по два часа занятий. Два часа я действительно занимался с ним по всем предметам его подготовительного отделения. На первой нашей встрече он мог сложить ½ + ½, но ½ + 1/3 было уже непосильной задачей. Зимой он уже легко решал тригонометрию:
sin X = 1 --> X = 1/ sin
а к весне осилил и производные. Правда, экзамены сдал на двойку, и содержание моё его папа снизил до 50 рублей, а потом его и вовсе отчислили, я поступал за него в кооперативный институт, меня на этом изобличили и чуть не поймали, я бежал от оперотряда до самой электрички, а потом по инерции, не снижая темпа, от «Перловки» до «Лося», хотя за мной, думаю, уже никто не гнался.
Разоблачили меня вот почему. Когда мы встретились в первый раз, он был в салатном просторном плаще и кремовых кримпленовых брюках, при этом фэйс – туркмен туркменом. Когда летом он сдавал документы, в приёмной комиссии не могли его не запомнить – туфли на высоком каблуке, джинсы, майка с Джимми Хендриксом, чёрные очки-капли, чёрный хаер до плеч, да и фэйс из придурковатого стал благородным, как у Цоя или у Брюса Ли.
Ещё он приобрёл «дипломат» и кассетник, правда, по-настоящему прикололся только к Бони М. и АББЕ, но я видел, что движение началось. Особенно он полюбил песню АББЫ “Take a chance”, он напевал её как «чики-ченс», оказалось, что по-туркменски это значит что-то непристойное.
Как-то раз ночью он меня спросил:
- Вот у нас сержант рассказывал, один баба его хуй рот брала, пиздит, наверно, как думаешь?
Я как раз через пару дней поехал в Симфик за белым военным билетом, так сразу привёз ему все мои школьные порнографии (сейчас они вспоминаются мне с не меньшей грустной нежностью, чем первая любовь, то есть с большей, конечно), чтобы он яснее представил себе, что происходит у меня с Птичкой, или Эрис, или Галитой, когда мы выставляем его ночевать на кухню.
Весной он женился. Вернувшись из Туркмении, он сразу радостно потащил меня в ванную (у меня кто-то был в гостях) и показал свои окровавленные трусы и хуй. Оказывается, все три дня свадьбы он бухал, впервые попробовал гашик, короче, пёрся с друзьями, а с невестой был незнаком и только перед отлётом вспомнил о супружеском долге (или решился, ведь и сам был девственник). Выполнил его наспех, даже не расчухав, на тачку, самолёт, и вот уже в Москве.
Немудрено, что внимание к предметам подготовительного отделения ослабло.
А сейчас я думаю: а может и не нужно было ему того, чему я учил его кроме школьных предметов? Ну, я ж не специально.
Видели бы вы, как он переменился в лице, когда Птичка вышла к нам на кухню из ванной, где она примеряла новую кофточку, и поправила под ней свои груди без лифчика – он сразу исчез в комнату, и как мы ни звали его потом попить чаю, так и не появился.
Мильён учился (случайное знамение) на одном ПО с Хутайберди. С первого раза он в Москве не зацепился (ещё до Вождя я пытался вытащить в Москву его), ушёл в армию, это была уже вторая попытка. На этом этапе уже я был как бы его учителем, ввёл в свои тусовки. Кстати, он же был моим первым партнёром в исследовании групняка. Впрочем, в результате всех наших тусовок и зависалова его вскоре отчислили, как позже и Вождя, и Инку, и Галку.
Поселился он в Москве только с третьего раза. Они со Свиндлером приехали жениться на Галинке и Инке соответственно. Герлы такого оборота не ожидали – ну, пошатались по Крыму, ништяк, что с чуваками, но жениться? Чё смеяться, как говорит Инка.
Мильён, раз уж оказался в Москве, устроился на лимит, а жена нашла его сама – герла давно уже тусовалась с Чарковским и его сподвижниками, только и глядела, кого бы подцепить. Ведь прежде чем рожать в воду, надо быть оплодотворённой, и Мильёшка подвернулся первым, кому эта идея понравилась. Очень многие в «Здоровой семье» были волосатыми или, как стали позже выражаться, неформальными.
И с тех пор я его не видел. Живёт далеко, днём на работе, а я приезжаю из Питера с Инночкой повидаться, у нас каждый час наперечёт. А его – ну с какой целью-то разыскивать? Уже троих понапринимал дома в ванну, жена их пестует, он папакарлит за дэцельную лимитную зарплату, ведь иначе жить будет негде. Ему теперь там ни до чего.
Но вот уже второй год я в Москве, а его по инерции не навещаю. И тут такое знамение.
В общем, только это и помогло мне мобилизовать герлов. Одному ехать общаться с Мильёном мне было скучно. Галинку, в принципе, можно подписать поехать куда угодно, надо только столкнуть её как-то с матраса, на котором она потягивает пиво, слушает музон и листает журналы. Но вот у Инки свободного времени не бывает, она всегда спешит, правда, всегда везде зависает, и от этого спешит ещё больше.
К тому же наибольшая вероятность застать кого-то дома в выходные, а как раз в ближайшие Галинка обязана быть с мамой в Коломне в церкви – то ли вербное воскресенье, чи то Красная горка? Завоевания перестройки на любой вкус: рокенрол, порнуха, православие. Ну а Инка – уик-энд всегда у Морквы, это уж как работа (то есть работа и есть, другое дело что ей нравится).
Всё же я убедил их: Мильёшка, вы вспомните, и рак, вы прикиньте.
Воскресенье. Проснулся по будильнику, яйцо, чай, сигарета, дабл, душ, сходил проверил участок и помойку, убрал кухню и коридор и передал дежурство, по плану заснул снова, проснулся снова чай, сигарета, дабл, душ, но теперь уже более основательное блюдо – кусочки курицы с горошком, перцем и опять же яйцом. Всё же направляемся в семью с тремя детьми, скорее всего – голодающую.
Тут и Галочка появилась, вписалась в план точно, как уговаривались. Пиво у меня было припасено – чтоб не так скучать, дожидаясь, как я и предполагал, Инку.
Галка тогда ещё и постилась, закусывала только горошком, поэтому всего лишь пиво как-то сразу здорово ей вставило. Инка очень ругала меня:
- Тебе, наверно, нравится, когда она такая? Ну куда мы поедем с ней в таком состоянии?
В нормальном, на самом деле, состоянии. Пошатывается – так это больше для понта, чтоб Инку позлить, гонит околесицу – с той же целью, зато главное – настроение, сразу видно, прекрасное.
Галка привезла из Коломны пузырь кагора – причастить Мильёшку или там помянуть. У нас с Инкой денег как раз не было – она одолжила мне все свои на оптовую закупку карт Москвы, которые пока только начали расходиться, дэцел, что уже заработал, я потратил на пиво и прочие примолоты. Зато Галке мама дала денег заплатить квартплату, и на них мы купили шоколадки детям и бутылку «Капитанского джина» на всякий случай.
Вот как ехать без пива в такую дальнюю дорогу? В метро от «Перово» до «Киевской» ещё можно почитать, отморозиться, но потом в автобусе? На Киевском мы купили буханку хлеба – в комплект к кагору. Отщипывать хлеб начали в автобусе, запивая пивом, народу было мало, мы веселились – наконец вместе хоть в каком-то путешествии, а то всё с лопатами на участке да под тусклыми лампочками в моей конуре.
Да, без пива нам было бы труднее. Вы знаете, что такое решиться? Подойти на улице к понравившейся девушке или обратиться с просьбой к начальству? Ведь на самом деле это – бросить вызов на магический поединок. Общение – или схватка, или любовь, но с любовью у нас… сами знаете, как. Соберутся, бывало, люди, уж и выпили, чтоб расслабиться, и, если больно продвинутые, курнули – а всё на умняках сидят, силой мысли своей хорохорятся. Наконец кто-то, раздосадовавшись, что принятый кайф да и просто время жизни даром пустораспорожняются, отмочит шоу – любить не хотите, ну так получите – и все его успокаивают, есть что вспомнить.
Что секс, что драка – равной силы провокаторы хоть искорки любви. Православным русским чаще нравится второе, против язычества они закодированы.
Была у меня знакомая Пластилиновая Ворона, тоже где-то хипачка, на пути, приезжаешь к ней конкретно на свидание, то есть поебаться, обоим всё понятно, но надо ж и поболтать вроде, и вот она безостановочно тараторит, причём видно, что уже в кайфе, не соображает, просто у неё возбуждение проявляется в такой форме, она не может тормознуться. Поцелуешь в губы – замолчит, целуешь в уши – продолжает стрекотать, раздеваешь – она всё что-то рассказывает, уже засадил – а она всё: нет, ну ты послушай! Могу похвастаться – не каждый бы это выдержал и удержал эрекцию.
Дом Мильёна я искал по зрительной памяти, два раза ошибался. Возле дома, опознанного на третьей попытке, было много детей, «прямо Бразилия, - сказала Галка, - точно, тут Мильёшка и должен жить», Инка подошла к детям и спросила:
- Кто здесь Емельянов?
- Я, - ответил чернявый толстенький мальчик.
- А папа дома?
- Дома.
- Живой! – обрадовались мы. – А в какой квартире?
С рождением третьего Мильёну предоставили трёхкомнатную квартиру, а я бывал у него только ещё в изначальной коммуналке.
Дверь открыла жена:
- Привет! (имя я забыл). Я Фил.
- А-а-а.
- А это Инна.
- М-м-м.
- А это Галя.
- А что за Галя?
Впрочем, в коридоре уже появился Мильён, лысый старичок. Раньше у Мильёна был самый длинный и густой хаер.
Прошли в комнату. Скованы. По возможности юмористически рассказываем ему об Иреновском сообщении. Оказалось, рак у него действительно был, хемотерапией вроде бы тормознули, правда, от неё сразу повылазили волосы, а сейчас он думает заняться уринотерапией по Малахову (Малаховка Галка оживилась. Всю зиму она экспериментировала на мне, мне-то пофиг, играем в больничку, вот окрестить она меня пока не завербовала, а клизмы – жалко что ли, чё б не попробовать).
- Миль, у нас тут есть бутылка кагора… ?
- Вообще-то врачи рекомендовали мне красное вино, правда, сухое…
- Ну Мильёша, - уговаривает Инка, - кровь же Христова.
- Ещё у нас есть «Капитанский джин», - смелеет Галка.
- О, джин…
Когда после школы, московский студент, я приезжал в Симфик, я всегда привозил всяческие знамения: юговские сигареты, «Республика», «Европа», много всяких, как я сейчас понимаю, беспонтовых, но в таких безумно красивых пачках! а также вермуты, бальзамы, «Черри бренди» и «Капитанский джин» – в Симфике такого не видали. Мы делали миксы, красиво закуривали, говорили о пластинках и музыкантах – и так балдели! Неужели мы теперь уже таки не дети?
В те годы Миль нарисовал картину «Плюю на папу» – нарисовал условного папу и оплевал разноцветной гуашью. Я был в восторге от идеи.
Галка сбегала в палатку и притаранила беспонтовых и недешёвых закусок, какие там продаются (квартплата подождёт).
- Хуля ты выёбываешься? – спросил я, пока Миль ходил за вилками и прочим. – Видишь же, как они живут, и демонстративно жируешь.
- А чё? Вон у них на кухне банка из-под оливок – позволяют себе, значит! – смотри-ка, успела углядеть.
- А может, это дети с помойки принесли?
Жена на рюмашку заглянуть не захотела, но Инка подловила её в коридоре и о чём-то по-женски покалякала – Инка умеет пообщаться на равных хоть с начальством в жэке, хоть с мусорами в паспортном столе. Как наденет кожаную куртку да нацепит очки – даже мне страшно.
Когда я только перебрался в Москву, устроила она меня продавцом в Морковкину палатку (правда, я не знал, что это и есть Морковка). Сижу я как-то раз, заваленный только что привезённым товаром, запаренно заполняю накладную и клею ценники – у окошка появляется какая-то тётка, смотрит на меня и ничего не говорит. Я продолжаю заниматься своим делом, а она уставилась на меня и чего-то ждёт. Наконец я не выдержал:
- Вам чего?
- Фил! – говорит она. – Ты что?
И только по голосу я понял, что это, оказывается, Инка.
Зрение у меня плохое, и я не привык им пользоваться, да и слух не абсолютный, вот только нюх повышенной чувствительности, и напоминает ему запах на флэту у Мильёна квартиру моего лучшего друга детства Сигала, у которого лежал, не вставая, папа. Правда, потом он переехал к жене, и запах переехал вместе с ним.
- Мильёша, а чего у вас так душно? – спрашивает Инка.
Миль сразу зажигает индийскую палочку, но Инка имеет в виду другое: почему форточки не открываете?
Да вот дети тут у нас, начинает как всегда неспешно растягивать Миль, но Инке неинтересно, она хочет рассказать, как у неё Филя по выходным на Морковкиной даче купается в ледяной речке. Хоть и не в ванну рождённый.
- А где у вас тут можно покурить?
- Мы не курим, - как-то неожиданно резко заявляет всегда мягкий Мильён, но спохватившись, поправляется, - можно покурить на балконе.
Когда мы с Инкой посетили собрание в каком-то клубе «Здоровой семьи», нам показалось, что все собравшиеся так пекутся о здоровье потомства именно потому, что сами врождённо нездоровы. Разумеется, в злоупотреблении курением нет ничего хорошего, но сторониться, как чёрт ладана…
Болезнь дала Милю возможность заниматься, чем нравится, и больше не заболевать. Инвалидность, пенсия (хотя и символическая), по лимиту можно не батрачить, хату уже не заберут. Делает разные индийские музыкальные прибамбасы и всеразличные флейты, пытается торговать ими в «Магическом кристалле».
На кассетах, смотрю, сплошные раги Шампура, поспрашивал – «Калинов мост» слышал название, о Башлачёве читал, о Летове и слышать не хочет, чернуха, о Чиже даже и не слышал, тюнера-то нет. Я притащил две кассеты, которые Свиндлер прислал мне с зоны, пусть, думаю, хоть послушает перед смертью, что наш товарищ сейчас сочиняет.
- Надеюсь, там нет ненормативной лексики? – только и поинтересовался Миль.
Зона всё же, а тут дети. Словопреступление, как у Оруэлла. Папа.
Когда-то мы с Мильёном на флэту у Ирен переводили на матерный язык Грибоедова, Шекспира, ещё кого-то. Идея у нас была – сделать классиков доступными и понятными простому народу.
Теперь он читает только фэнтэзи. Кроме известных мне Урсулы, Желязны и Толкиена куча других авторов. Я взял почитать у него Миллера, думал Генри, оказалось, что Джордж, тоже фэнтэзи, мне понравилось.
О Кастанеде только слышал, «Розу мира» жена пересказывала, Лимонов, вы уже догадались – чернуха. Даже Незнайку не помнит, а ведь похоже на фэнтэзи, да и с лексикой там всё в порядке.
За пару лет до этого я после почти столь же долгой разлуки посетил Вождя, правда, с другими герлами, Ришей и Одуваном. И он поставил старую песню «Урфина»: «Я снова у вас в гостях, вы молоды так же, ребята, и снова портвейн на столе, как в 75-м. И ваш малыш под столом мешал нам снова и снова, и ты наклонилась к нему и сказала какое-то слово. И мне показалось, друзья, это было когда-то запретное слово НЕЛЬЗЯ».
И вот тут и произошло Знамение – после всех раг и флейт Миль ставит кассету:
- Ну а как вам это?
Как говорится в одном анекдоте – и опизденели мужики, я в данном случае.
Когда-то я прихуел, услышав запись, а потом и купив пластинку Янки. Когда я во второй вечер знакомства с Ришей (в первый мы просто страстно трахнулись) услышал, как она ещё и поёт, я спросил:
- А тебя не Янка зовут?
Хотя потом разобрался, что ничего похожего – ни стихи, ни голос, ни мелодии – но почему-то с первого раза мне так приглючилось (как в Ревяке видят Джима). (Джиму-то чисто по жизни было куда как легче).
Инка, разумеется, стебала меня за моё увлечение Ришей (как Галку за малаховщину и за христианство). И как раз этой зимой неоднократно говорила мне:
- Не слышал ещё по эФэМу – передают иногда Олю Алтуфьеву? Очень похоже на твою Ришу, но только ж земля и небо – и голос есть, и петь умеет.
Наконец и мне попалось, правда, по «Радио 101» крутили только две песни. На Ришу похоже не больше, чем БГ на Борзыкина, общая только припевка «а-я-я-яй», ну так это сейчас у неформалов просто модно, считается, что по-растамански. Очень кайфово и, может, и круче, да только кайфовые вещи глупо сравнивать.
На мои изумлённые вопросы Миль поясняет следующее. Он играет в какой-то группе с трудноопределимым направлением, в которой по совместительству и зову духа играют Ольгины перкуссионист и ударник.
Когда Миль со Свиндлером приехали в Москву женихами, с ними прицепом приехал их басист Думафей, и они поселились у Пластилиновой Вороны. Думафей стал ходить на выставку индийских инструментов учиться играть на вини, где и познакомился с Севой, а потом познакомил с ним Мильёна.
И молчал! С рагами своими тут. Что за человек стал, а?
В Новогиреево мы зашли сначала к Инке, хотели распить всё же «Капитанский джин» – у Миля я так и не стал его открывать, зачем – и денег стоит, и здоровье портить, а в такой атмосфере он его портит. Когда напряг, никакого джина не напасёшься. Умняки уж лучше по трезвякам.
Но на кухню вылез Инкин папа, и я свалил по-английски, прихватив по ходу джин. К себе на флэт, слушать Алтуфьеву.
В 4 ночи я понял, что нет не заснуть, придётся описывать впечатления, а торговлю на трассе утром придётся пробросить, всё равно понедельник.
Как отпишешься – легко становится, как после донорской сдачи крови или как после малаховской клизмы.
Мильён дал мне запись зальника в «Не бей копытом» 94-го года.
Через несколько дней я снова съездил к нему.
Терпеть не могу возить в машине Славку. Он трещит без умолку, причём постоянно одёргивает и призывает его слушать, а рассказывает он, как и я, случаи из своей жизни, но без повода и морали, а хуже всего – что он пытается то и дело влиять на моё управление автомобилем, и его манера давать советы – простонародно-агрессивная, игнорировать его можно, но очень трудно. А повлиять на него нельзя ничем, он ничего не слышит и не понимает. Он, как закиряет, сразу начинает быть собой очень твёрдо, хуй ты его заставишь быть каким-нибудь другим. А сам собой он – честнейший, порой лиричный, иногда душевный, а вообще – долдон, каких мало. Козерог, что ты хочешь.
Всю дорогу я старался удерживать чувство юмора, но когда уже подъезжали обратно, он таки достал меня очередными въедливо-злоебучими советами:
- Блядь, ну ты и заебал! – выпустил я накопившееся напряжение, короче, психанул.
За многие годы приездов в Крым я заметил, что так называемая акклиматизация – реальная вещь. Я сужу по себе и наблюдаю своих спутников. Первые два, три, а то и пять дней – у всех так или иначе заметно едет крыша. Выражаясь общепринято – повышаются раздражительность, обидчивость, психованность. Общее во всех изменённых состояниях психики то, что пропадает чувство юмора – вот в чём корень вообще всей бесчеловечности.
Возможно, в том, что мы потеряли мясо, купленное для шашлыков, виновата моя нервозность, а не Олино колдовство. Дело в том, что Оля, услышав, что мы собираемся на базар, высказала фи в отношении вина и мяса. Пост должен был кончиться завтра – не знаю, может, для кого-то последний день выдержки самый трудный?[6] В общем, она была не в восторге от того, что мы опять собираемся грешить у неё на глазах, и не скрывала этого. «Ну ты как хочешь, - сказал ей Мишелька, - а мне вот хочется шашлыка, и почему я не могу его себе сделать?»
Когда мы приехали, мы выгрузили все пакеты из салона и из багажника, я стал загонять машину во двор, а ребята потащили провизию ко мне домой. И потом только хватились – надо мариновать мясо, где оно? Даже если мы забыли его возле Славкиных ворот, сейчас там уже ничего не было.
Вот и не вышло у нас ничего с шашлыками. Поститься мы так и не стали – на всякий случай Мишельки купили тушёнки на море, но представляете – одно дело торжественно и весело жарить на костре шашлыки, сам процесс, и совсем другое – функционально закусывать консервой, такая проза, точно как алкаши, какими Оле и хотелось бы нас увидеть.
Обвинять её в колдовстве – всего лишь способ говорить, по выражению дона Хуана. Точно так же для материалистов можно придумать версию о гипнозе. Какое примиряющее понятие – гипноз. С одной стороны, всё равно точно так же непонятно, что это и откуда, но при этом – вроде слово научное.
Я только хочу сказать, что бывают не просто совпадения. Слишком много совпадений. Да вы поиграйте с Мишелькой в нарды и сами всё увидите, как у него кубики падают.
Я нервничал, потому что стеснялся перед Олей своих братьев. Не то что бы стыдился, но вообще мне кажется, что мало кто имеет основания гордиться своими родственниками, которых не выбирают. Мне хотелось показать Оле Парфёна, которого я сам выбрал, а братанов своих я предпочёл бы держать на дистанции. Вот мама у меня – пообщается, сколько нужно, «как дела рабочий класс», и уходит по своим делам, предоставляя молодёжи заниматься своими. Потомственная интеллигентка и столбовая дворянка, правда, папу выбрала такого, чтоб не репрессировали, а наоборот.
Про Славку Инкина мама говорит: «Один боцман среди Филюковых человек» (а не робот). В юности он знал всего Высоцкого и даже сам сочинял песни. В первый раз я сидел у костра и слушал гитару, когда мне было год-полтора. Любимой книжкой был у него «Остров сокровищ», в 16 лет он поступил в мореходку, но после армии женился и больше гитарой не интересовался. С женой у него были расклады, как у меня с Ирен – русская достохуевщина. А на склоне лет он зажил со своей школьной любовью. Она воспитана, как интеллигентка, потому что еврейка, а сын у неё стал крымским перестроечным бандитом по прозвищу Скользкий. Он добрый и не виноват в том, что любит только деньги и понты, которые можно за деньги себе позволить.
Сева, в противоположность незамысловатому боцману, изображает образованного – усы, очки, галстук. Совдеп конструктор, даже патент у него какой-то есть, хотя чему равен синус двух икс, конечно, не помнит. С первой женой тоже не сладил, мама считает, потому что еврейка, а нацмены злоебучи («нацмен» её любимое словечко, «злоебучи», конечно же моё, они с тётей выражались на советском наречии темпераментны, только повзрослев, я узнал, что они имели в виду под этим словом), он её, ещё одно советское понятие, не удовлетворял. А им же всем верность подавай, как Лёвы Толстые по завету Моисея воспитали, то есть наебали. Вторая его жена была девственницей в тридцать с чем-то лет, и изменить ему у неё не получилось бы при всём желании – ошибается мама, наоборот силён братец, если у него получается поднять хуй на такой бесформенный кусок мяса. Мама говорит, очень трудно на неё шить, никакие выкройки не подходят, как ни подгоняй. Форма тела, не имеющая аналогов. Вдобавок дура редкая и конченая. У интеллигентов случается, что они подыскивают себе такие пары.
Мишельки-то мне как свои, но усаживать за один стол со своими братьями Олю с Мышей мне очень не хотелось.
Как это у меня часто бывает, я выражал свою нервозность манерой ведения дискотеки – слишком часто бегал менять катушки, слишком громко включал, чтоб заглушить порожняковые базары.
Шашлыки у нас были за много лет отработаны. Прямо как выходишь из дома – густая стена топинамбуров, за ней под яблоней столик, вокруг чурбаки, под поповской стеной костёр. На стене полустёртая надпись углём: «Бог есть любовь, он же – красота, он же – кайф», пародия на аннотации к фотографиям преступников у Жеглова
На яблоне подвешена лампочка и розетка для кипятильника. На втором этаже на веранде я открываю угловые окна и укладываю на подоконники 35АС, подключенные к бобинной «Комете», шашлык как раз в середине стереобазы. Правда, чтобы сменить бобину, каждый раз нужно бегать на второй этаж по почти вертикальной лестнице, капитанскому трапу моего папы.
Шашлыка на этот раз не было, зато винчик был в избытке, разливной, в данном случае не потому что дешевле, а скорее из ностальгии: опять мы в Крыму, и как всегда наша любимая разливуха. Любимая потому, что её можно купить столько, что все упьются и ещё останется. Ясный перец, хорошо бы упиваться так же элитными винами, но таких средств у нас пока нет. А как-то всё же противно поровну делить каждую бутылку, следить, как их остаётся всё меньше, искусственно растягивать ожидание очередного распития. Хочется, чтобы у всех было немеряно налито, и каждый сам попивал, как ему нравится.
Мишелька взял на себя общение с моими братанами, а мы с Олей перешёптывались по другую сторону стола. Впрочем, может, я просто вообразил, что Мишелька оценил ситуацию и выручает меня. Он в кайфе от своего приезда, и ему похуй, с кем бухать и гонять порожняки. Видел я его земляков и как они общаются. Просто у меня покатила мания, как бы они не пригрузили Олю, и как характерно при мании, стало казаться, что окружающие должны мне помогать. Мне плохо, разве они не видят? Ну-ка, я проверю вас на дружбу своей бедой.
В итоге я всё же напился – как всегда от скуки. Я и не заметил, как Оля с Мышей исчезли – потом оказалось, что я достал Олю своей музыкой и кривлянием, и она позвала Мышу на прогулку, не чтобы полюбоваться звёздами над озером, а лишь бы свалить от меня. Они пошли на Симболото, так местные называют водохранилище, а Галка, недослышав, стала называть его Семиболотьем, по-моему, звучит очень красиво. Хотя на самом деле никаких болот нет, довольно большое озеро, просто у русского народа такой ироничный склад ума. Ещё его называют иногда по дальнейшему созвучию Симбалтикой. А недавно я слышал: водохранка.
Понятия не имею, чем была недовольна Оля. Ну, ставил громко музыку – так это Сева просил меня прибавить свой любимый “Smoke on the water”. Раньше он слушал только Элвиса и подобных ему рокабильщиков, которых я знаю только теоретически, читал про них, но по голосу не узнаю. Я сперва подарил ему кассету “Led Zeppelin”, чтоб он слушал у себя в машине, но он не прохавал. Зато из бобин моих он страстно полюбил “Deep Purple” и “AC/DC”, и когда напивался, приходил ко мне и просил поставить – и такое начинало с ним твориться, что мне даже завидно. Перед зрителями вроде Оли он обычно пляшет буги-вуги, как на Марьинской танцплощадке в начале 60-х, но когда остаётся наедине с собой, он катается по полу, колотит кулаками, воет и хохочет при каждом заводном гитарном риффе.
Нет, говорит Оля, мы просили сделать потише, а ты специально делал ещё громче. Ёлы-палы. И от кого же я слышу такие упрёки? Как участковый.
Короче, неважно, что именно я там делал, но все знают, как я иногда шизую пьяный – например, однажды на стол насрал, так компания чем-то не понравилась (такая легенда, на самом деле только пытался насрать, но не смог). С кем не бывает.
А Оля надолго запугана своим мужем, с которым разошлась как раз недавно, не желая больше терпеть пьяных и, неизвестно что патологичнее, постгероиновых шизовок. Про Славика Индейца я уже был наслышан, а теперь мог наблюдать, как он повлиял на бедную Олю.
Оля сказала, что насчёт шашлыка она не при чём, а вот я – действительно колдун, а точнее – колдунчик, волшебник-недоучка, сам не знаю, чем оперирую. Что я одержим бесами, причём злонамеренно ищу их и вызываю. По-моему, она говорила о Славике, меня ведь она совсем не знала, судила по одной пьянке.
И вообще она уже очень жалеет, что во всё это ввязалась.
Представляете – такое услышать?
4. Каждый шаг через больно
Утром я обнаружил, что немедленно наказан за вчерашнюю небезупречность (вообще это дело чем скорее, тем лучше).
Когда-то я приседал со штангой, и какие-то сухожилия возле правого колена как-то неудачно защёлкнулись. Я как раз был один в спортзале, так что никто не слышал, как я, охая, как при родах, лёжа вправлял колено на место. С тех пор такое изредка случается у меня, и я давно научился легко расщёлкивать заклинившую ногу.
Вечером, когда я перед сном снимал колонку с подоконника, нога у меня защёлкнулась, а я так и заснул, забыв вернуть её на место.
Утром оказалось, что колено распухло и разогнуть ногу никак не получается. Ладно, решил я, потом разберёмся, сперва позавтракаю, а потом Оля выдвинула мне претензии, после которых я думать забыл обо всём, кроме единственной цели – любой ценой доставить Олю к морю в кратчайшие сроки. До машины можно допрыгать на одной ноге. Полусогнутость второй не помешает ей жать на педаль газа. Ну а дальше разберёмся, не на всю же это жизнь.
Машина не пожелала заводиться. Ещё вечером аккумулятор неожиданно перестал работать. Братья научили меня, что в таких случаях следует отвинчивать пробки банок и убеждаться в том, что ни в одной банке нет нужного уровня электролита. Друг ковбойского детства братьёв Фред дал дистиллированной воды, но сказал, что при таком уровне всё поздно. Он шофёр профи: утром оказалось, что аккумулятор взял зарядки ровно столько, чтоб сесть при первом же повороте ключа.
- Да что мучаться? – сказал Мишелька. – Поехали я новый куплю. Это будет мой кусок машины, на которой мы будем ездить. Ты хочешь, чтобы вся машина была твоя, да? Давай хоть аккумулятор будет мой.
Поехали искать. Где-то возле телевышки, в старом городе, на выжженных пустынных татарских улочках вдруг закипает радиатор. Открываю капот – целлофан, которым я заткнул одну из банок, поскольку пробка потерялась и лень было её искать, выскочил из банки и оборвал каким-то образом все лопасти вентилятору.
Купили и вентилятор. А в радиатор я долил Олину святую воду, никакой иной жидкости не нашлось в машине. Дома я долил пузырь до должного уровня, и Оля, может, до сих пор держит эту воду за святую. Или как? У святой воды есть срок годности? Можно предположить, что святое – вечно, а можно – что любая вода имеет свой предел святости.
Оля, пока мы парились по раскалённым улочкам, лежала у меня дома на затенённой яблонями веранде и, дочитав предложенные мною выпуски «Гласа», снова взялась за Маршака.
Индеепендент «Глас»
Май 96
Я услышал зов и поехал к Мильёну снова. Обычно живёшь – все поездки функциональны: либо купить карты и атласы, либо продать их, либо на оптовый за пивом, бренди и припасами съездить. Купить хуйню, продать хуйню, на разницу пожрать, высрать и на полученной энергии ехать снова покупать и продавать. Круговорот гавна, давно известная тема. Нет, конечно, не только… по-своему это тоже не лишено интересности, и похавать – вкусно, и процесс продаж не лишён увлекательности: деньги – бонусы, мусора и бандюги – враги, опускальщики, развиваются внимание и реакция, иногда упражнения в беге с препятствиями. Попасть в мусарню – тоже упражнение, но уже для психического аспекта безупречности.
Интересно… но есть ведь что-то другое? съездить на Горбушку за кассетами или в «Олимпийский» за книжками – за носителями иных энергий.
Таким, как жена Мильёна, частые визиты таких, как я, на хуй не нужны, и, открыв дверь, она выразила это интонацией и мимикой: как бы удивилась и явно без воодушевления.
Да и с Милем общаться мне было по-прежнему трудновато – о чём и как?
Но своего я добился: мы вышли на улицу и по уличному телефону позвонили Севе, чтобы узнать, когда у «Титаника» ближайший сэйшен.
Галке с Инкой я ничего не сказал. Когда мы всей компанией ходили на Чижа в Горбуху, это был праздник, а сейчас я собирался в разведку. Племя мирно пасётся на пригодной для жизни площадке, а я в одиночку лезу в очередной ход лабиринта – может, там наконец лаз к свету из этой усталой матки?
Перед сэйшеном как всегда прихорошился: постирал джинсы и куртофан – они хоть и заплатанно-заштопанные, в выстиранном виде выглядят, на мой вкус, очень красиво, я так торчу от этих переходов синего в белый – лет с десяти. Горячую воду как раз почему-то отключили, пришлось идти к Инке мыть голову. Оказалось, что знамение, потому что на её сберкнижку как раз назначили дворницкую зарплату, а я уже хотел у неё занимать. Правда, пришлось дожидаться, пока она накрасится, и соберётся, чтоб ничего не забыть, и в дабл ещё на дорожку, и вот ещё, кстати, в одно место позвонить забыла – а я-то ведь не говорю, что куда-то тороплюсь, такое вот упражнение.
На стрелку приехал минута в минуту. Мильён уже ждал. Оказалось, он ещё и с Ирен стрелу забил, додумался сделать мне сюрприз, и не подозревая, что неудачный.
Когда я звонил Ирен по телефону, я кроме новостей о Мильёне ещё и договорился с ней о встрече. Она: сейчас никак невозможно, потому что ведь пост (я, хлопая себя по лбу: блядь, точно!), да ещё и великий, так… кончается в воскресенье, в понедельник у меня ученики, во вторник тоже… знаешь, позвони мне в среду? Интересно, при чём тут пост? Разве встреча старых знакомых грех? Или имеется в виду, что непременно ебаться? У них ведь нельзя ебаться во время поста или как? Наверно ж нельзя, это Галочка просто постится без фанатизма.
У Носова есть хороший рассказ о том, как мальчик стоял в карауле, пока прохожий военный не снял его с поста.
Я послушно простодушно не делаю сразу вывода, что она опять с самого начала ебёт мозги, и звоню в среду. Ты знаешь, у меня ученики до восьми, а завтра с трёх (по-моему, времени поебаться вполне достаточно?), давай лучше ты сам ко мне приедешь, нет, не сегодня, а лучше завтра, а то ко мне собирается прийти в гости один человек, ты знаешь, у нас просто дружеские отношения, но я так боюсь, что он вдруг начнёт приставать, а при тебе он, пожалуй, не станет…
Чё за поебень? Крэйзи, это ясно. Ну ладно, давно ведь уж ясно… но только роль она мне предлагает – да вот уж хуй. В общем, ясно – пора опять забыть её навеки.
Ладно, говорю Милю, жди, раз уж условился, а я пойду пока пива куплю.
Пива я купил в магазине, а не в палатке, потому что то же самое, но дешевле (тогда ещё было так), восемь поллитровых банок «Белого медведя», потому что самого лигрылистого (лигрыл = литр-градус на рыло, например, в пузыре водяры 20 лигрыл, на троих 6,7, а пива я взял лигрыл на 30 – на троих по 10, в самый раз).
На двоих, впрочем. Когда-то я огорчался Иреновским динамо, сейчас благодарю за них Джа, меня берегущего.
И поехали мы с Милем в троллейбусе, набитом волосатыми, попивая пивко.
Позже я узнал, что ехали мы в театр Спесивцева, когда я стал работать извозчиком, я сто раз проезжал там мимо, но тогда я видел всё впервые: какое-то Дмитровское шоссе, эстакада, за ней вдруг старый, сразу послевоенного времени район, бульвар, серо-кирпичные дома, на углу – срезанный вход в сталинский дворец культуры, на ступенях, ведущих к нему, и вокруг на тротуаре скопище волосатых и джинсовых пиплов, тусуются, загадочные.
В кассе оказалось, что Сева забыл вписать Мильёна в список.
- Славик! – закричал Мильён кому-то, но тот, кого он звал, не расслышал.
Я вышел пока на крыльцо покурить. Мильён тем временем договорился с контролёрами, что сейчас приведёт Севу и тот всё объяснит. Нас впустили. «А вот и Славик!» – обрадовался Мильён.
Незадолго до этого Филя рассказывал мне, как его похлопал сзади по плечу какой-то шестиклассник – Филя повернулся и охуел. Такие у него джинсы, рассказывает Филя, такая клёпаная куртка, на майке там такие чудовища, ну и т.д., не помню подробностей, но чувствуется, что испытал он примерно то же, что Никулин в «Бриллиантовой руке» – «Папаша, огоньку не найдется?»
Вот примерно то же испытал и я при виде Славика. Чёрный хаер, чёрная борода, а ниже сплошь чёрная кожа и сверкающие клёпки, соответствующие чёрные сапоги. Это не то что джинсы постирать – это, наверно, на каждый сэйшен надо натирать гуталином, чтоб так блестело. А клёпки пастой Гойя.
- Это Фил, - представил было меня Мильён, но Славик не обратил ни малейшего внимания, да и Мильёну лишь кивнул озабоченно и похуячил по своим делам.
- Кто это? – спросил я охуевший.
- Муж Ольги, - сказал Мильён, - а заодно её администратор.
В зале мы уселись на третьем ряду – поближе к сцене, но не на первом – достали по банке пива… но оказалось, что «Титаник» будет играть чуть позже, а пока разрешите вам представить – выходит на сцену парнишка с короткой аккуратной причёсочкой, в брюках и поёт с лицом фанатика под тщательную классическую гитару слова настолько умные, что с первого раза уж точно никак не врубиться, а второй раз слушать такое меня не тянет. Может, всё это и очень грамотно, и понравилось бы профессору Преображенскому, но мне симпатичнее Шариков. В общем, пошли мы пока в дабл.
Пипл, тусовавшийся в фойе, был в основном волосатым, и мужская часть в основном олдовая. Разумеется, никаких панков, оборонщиков и алисоманов. Часть народа вообще не то чтобы цивильная, а скорее оцивилившиеся бывшие неформалы.
С Мильёном пару раз сердечно поздоровались симпатичные герлы, со всеми тусовочными обниманиями и поцелуйчиками, и я лишний раз был поражён его высокодуховным пренебрежением плотью: тут такие кисоньки, а он живёт с карликовым бочонком и в хуй не дует – каков идеалист. Была в наши школьные годы такая песенка: «Только вот не каждый видит эту, эту красоту…»
Впрочем, в предвкушении Оли мне было не до герлов. Я всё принюхивался, не курят ли где-нибудь ганджа – всё ж таки «Титаник» вроде рэгги играет? Обязательно должна быть и ганджа. Я собирался просто подойти и предложить банку пива за пару хапок. Но никто не пыхал. Атмосфера была, как в какой-нибудь филармонии, только вместо фраков джинсня.
Когда мы вернулись в зал, хлопчик всё ещё пел. Мы сели там же, открыли ещё пивка, хотя мне уже и было даже слегка неудобно (а с портвейном, прикинул я, мы бы тут вообще белыми воронами были, как бы ещё, глядишь, не попросили из зала…).
Подошли герлы и показали билеты на места, на которых мы сидели (ну и сэйшен – билеты, места). Потом нас согнали с других мест, и мы встали у стенки. Стоящих было не меньше, чем сидящих, и весь концерт все стояли и сидели очень дисциплинированно, никаких плясок и оттягушек.
Ольга появилась в длинном чёрном платье. Ну слава Джа – красивая! правда, с такого расстояния не очень-то можно разглядеть, но вроде ничего… не знаю кому как, а мне нравится – худенькая, лицо тонкое, брови настоящие, волосы вроде есть, и держится королевной.
Признаться честно, я не очень разобрал, что она тогда пела. Все песни я слышал впервые, и не могу я воспринимать такую информацию в залах. До меня хорошие песни почти никогда не доходят сразу, обычно сперва нужно просто потусоваться по квартире, пока играет новая кассета, чтоб привыкнуть к звуку. Специально не прислушиваться, заниматься чем-нибудь, чистить картошку, мыть полы, зашивать джинсы, играть в нарды, и раза со второго-третьего-четвёртого какая-нибудь песня вдруг вставит, а дальше и другие начнут прорубаться. Тогда уже можно хорошенько курнуть и послушать внимательно, особенно в наушниках, а ещё лучше – как в моей питерской общаге у Лужа в стандартной комнате на двоих стояло колонок почти на киловатт, и усилитель соответствовал этой мощности. При такой мощности, да ещё если курнуть, с первого раза во всё въедешь. Низкие частоты воспринимаешь уже не слухом, а осязанием, всем телом, паришь, как в бассейне, а высокие окружают тебя, как кузнечики в поле.
А в наших залах обычно нужно специально прислушиваться, чтобы что-то разобрать – громкости-то хватает, но не достаёт разборчивости. Даже в ЦДХ, одной из лучших по звуку Олиных площадок, вроде и слышно всё, но я слушаю дома запись и поражаюсь – как? неужели всё это там было? как же мало я воспринимал.
С другой стороны, разумеется, на сэйшене воспринимается нечто иное, чего и видео не передаёт.
Общее впечатление у меня было – овдовевшая Ярославна жалуется народу с забрала в Путивле, а народ – известно: кто-то, может, и сопереживает, кто-то, как я, просто любуется Ольгой, а многие, возможно, просто считают обязательным отметиться в нужное время на нужной тусовке.
«На всех сэйшенах народ в основном один и тот же», - сообщил мне Миль. Также он объяснил, что рэгги Ольга больше не поёт. Когда-то у неё был период блюза, потом акустики, потом уже только рэгги, а сейчас настал опять новый период – какой? пока без названия, просто такая вот музыка.
Нет, на самом деле я был охуевший. Я не разобрал ни слова и не запомнил ни одной мелодии, но голос Ольги, вообще весь её вид, ощущение таинства – всё это вместе сдвинуло мне крышу. Хоть в этот раз она и не пела «Удивись мне», я не то чтобы удивился – я прихуел, то есть был поражён, сражён, смыт с палубы. Всё представлялось мне необычайным, зазеркальным, как Алисе, закинувшейся грибочком.
В девятом классе мы ходили с Мильёном в кино на «Молчание доктора Ивенса». Когда уже я вернулся домой, я вдруг отдал себе отчёт в том, что совершенно не помню, как мы вышли из кинотеатра, как ждали троллейбуса и наверняка о чём-то говорили. Причём по полной трезвяни – полный отлёт. Очень похоже на то, как Кастанеда не помнил своих повышенных осознаний. И точно так бывало у меня и от книг, и от «Криденс» и «Шокин блю».
Миль повёл меня за кулисы. Ого, вот это да – а, пипл, повезло, вы врубаетесь?
Прошли через сцену, потом катакомбным коридорчиком, который неожиданно сменился просторным помещением с балконом на уровне второго этажа, на который вела лестница. Помещение было заполнено группами знатно волосатого пипла и герлов отборно тусовочного вида, а на балкончике восседали небожители – и мы поднимаемся к ним! В глубине на диване сидели ослепительно кожаный Славик с божественной Олей, а кругом на корточках расположились музыканты. Сева как раз смешивал табак «Драм» (любимый табак ударников?) с чёрненькими комочками гашика.
- Это вот Фил, - представил меня Миль.
- ?
- Спонсор пива.
- А-а-а…
Я предложил им пива – они отказались: нет, мы только пепси. Сева взорвал косяк, затянулся и протянул его мне первому – ну на попробуй…
Ольга со Славиком в глубине балкончика были заняты своей беседой, Славик с жаром уверял, что сегодняшний сэйшен как никогда успешен, и кому-то там, кто должен выпускать их компакт, очень понравится.
Тем временем объявили второй акт. Миль вручил Боре какие-то свои стучалки, которых у него был с собою целый мешок. Миль всюду всегда шатается с мешком разных деревяшек, как дед Мороз. В зал мы вернулись через сцену, как взрослые.
Ольга успела переодеться. Теперь она была в голубых вытертых до белизны расклешённых от колена джинсах, в шляпе с полями и с волосами до пояса. Миль объяснил мне, что это парик, приделанный прямо к шляпе. А на Мыше был большой чёрный цилиндр, в котором он выглядел очень загадочно, плюс борода и прямые светлые очень длинные волосы, и ноги тоненькие, как у Щелкунчика. Гашик оказался охуительным, и теперь я чётко различал, как надёжно держит он басовый каркас, как титан небо. А Сева за барабанами оказался просто волшебником, вроде Коллинза, когда он был ещё с Габриэлем, или не знаю кого, Билла Браффорда? И Боря его чуткий компаньон. Миль очень обрадовался и стал толкать меня локтем, когда Боря применил его деревяшки.
К тому же мы нашли свободные места, и на песне «Каждый шаг через больно» я напрочь отъехал, поймал таки драйв и прочее, галюны какие-то запредельные.
А потом был наконец «Трамвай из болота в рай», который я слышал на кассете. Оля предварила его вступлением:
- Вообще-то я рэгги сейчас уже не играю, но раз уж вы так просите… ладно, давайте – ТРАМВАЙ !!! (все в зале – ВАУ !).
Ещё на кассете я обратил внимание, как напоследок её просят спеть «Голубочек» и вот что она говорит: «Ладно, с удовольствием, Голубочек… хотя это уже не рэгги (со снисходительной интонацией), меня радует, что вам нравится ещё и акустика». То есть так: ништяк, что вы такие продвинутые, что врубаетесь не только в общедоступный рэгги, но и в гораздо более духовную и возвышенную акустику. Что за разделение, недоумевал я, это рэгги, это уже не рэгги.
Под «Трамвай» все встали, пришлось и нам тоже, хотя не сказал бы, что был движим неудержимым порывом. Ну как это – тут, значит, сидим, а тут дружно встаём и танцуем, прямо гербалайф какой-то.
Это я, как только приехал в Москву, взял в метро приглашение на работу и пришёл на собеседование, проходившее почему-то в еврейском театре на Таганке, там сейчас казино. Собеседование предварялось подобием сэйшена. Жизнерадостные сыны и дочери древнего народа сменяли друг друга у микрофона, рассказывая о том, как ништяк им стало с тех пор, как они прикололись к гербалайфу, каждый кричал под конец «ура!» и хлопал в ладоши над головой, зал подхватывал аплодисментами, а в оконцовке все вдруг встали и затанцевали под довольно попсовую диско-запись. Собеседование было уже после шоу. Предлагалось внести для начала $135.
Потом Мильён о чём-то долго тёр на сцене с Севой, демонтировавшим ударную установку, а я сидел в пустом уже зале и слушал, как сзади меня на два ряда Славик Индеец беседует с представителем фирмы, выпускающей компакт. Представитель вальяжно гнусавил, а я со злой грустью размышлял о том, что невозможно продвинуть в тираж свой свет без помощи слуг жёлтого дьявола.
- Я предложил им, что мы можем помочь что-нибудь таскать, - сказал мне Миль, - но Сева сказал, что они и сами справятся.
Мы шли по ночной улице, пиплы уже разбрелись, прохожих почти не было, мы перешли на другую сторону и взяли ещё пива, на этот раз, по предложению Миля, «Афанасий», Миль был пьяный и весёлый, как когда-то, и мне это нравилось. Себя я ощущал трезвым, хотя и с напрочь съехавшей крышей. Представьте – каждый день или гребу снег большой лопатой, или бегаю с мальчишками по трассе с картами и атласами. Суровое выживание, в любой мороз и зной… ну, в зной, впрочем, я в Крыму.
И вдруг – вот они живые боги, их можно потрогать, они реальные, такие же, как я, да не такие. Тусуются себе, смотри-ка, залы организовывают, компакты издают.
- Как им это удалось? – спрашивал я Мильёшку. – Кто они такие?
- А ты слышал когда-нибудь про суфиев? – начал тему обстоятельный Мильёшка. – Это такое древнее движение, даже неизвестно, сколько ему тысяч лет, и вообще – есть ли у него начало? Может быть, что началось оно не на земле…
Как раз этой зимой я прочитал книжку про суфиев. Я нашёл на помойке кучу эзотерической литературы – кто-то, видно, конкретно вставился, а потом сделал окончательный вывод. Блаватская, Ауробиндо, Алиса Бейли и много прочего, даже хрестоматия по корану. Но понравились мне только «Суфии» Идрис Шаха, к тому же это была единственная из книжек, отпечатанная на ротапринте и переплетённая, какой и положено быть настоящей эзотерике
Ещё в конце 70-х, будучи студентом и впоследствии гувернёром, я тусовался в Джониной общаге в комнате, в которой поселился и он, когда его выгнали. Там жили ребята, старше его и меня на курс, которые считали себя единственными продвинутыми на весь горный институт, вот только Джонни присмотрели ещё на дискотеке, так здорово научили его танцевать негры. Остальные студенты считались голимой кантрой или цивилами, не врубающимися ни в джинсы, ни в диски.
Верховодил Никсон. Когда я знакомил с ними Мильёна, я характеризовал его как художника, поэта и вообще перкуссиониста. Не имеющие талантов допускались только герлы. Хутайберди, например, я никак не мог бы туда привести. Мы с Джонни были поэтами, ещё один Джон певцом под гитару и даже клавиши, Мишель занимался каратэ, тоже как бы искусство. Один Никсон не имел никаких талантов и для компенсации не на шутку увлёкся психологией и эзотерикой. Не знаю, где он сейчас, но ещё в начале перестройки, при Горбаче, он свалил в Штаты, по его словам, в школу магов. Фамилия у него была Хитерер.
Так вот, у него то и дело бывали таинственные брошюрки, которые он читать нам не давал – тайна великая! только для допущенных – но показывал обложки. Сейчас-то всего этого навалом – те самые, потаённые книги стали запросто доступными и поэтому почему-то уже не долбящими.
И вот тут у меня и поехала слегка крыша. Мильён говорил в фигуральном смысле, он пространно развивал свои теории о вечности этого движения, принимающего всё новые формы, о том, что все мистические школы – это ископаемые окаменелости, зафиксировавшие формы, которые принимала, развиваясь, эта идея.
А я был в том же состоянии, в каком в детстве буквально веришь в сказку. Если посчитать по лигрылам, мы приняли чуть ли не по пузырю водяры, возле метро взяли ещё «Медведя», потом долго сидели на платформе, поезда приходили и уходили почти пустые, и я совсем не помню, о чём мы там говорили. Но меня так вставило[7], что и на другой день, и ещё неделю я находился в ином осознании – я вдруг вообразил, что вот это и есть те самые сказочные суфии. Почему бы не допустить, что реально существует на протяжении тысячелетий некий незримый орден, средоточие определённых магических сил. Там уже в такой клубок эти силы сплелись, что и не разобрать, кто из членов ордена под действием каких сил осуществляет миссию. При этом круги допущения, и никто не знает, что выше есть ещё более допущенный круг. Вообще никто не знает, что есть этот орден, каждый думает, что он служит фунционером какой-то партии или секты или организации, и не подозревает, что всё это лишь фасады, маскирующие запущенную когда-то и уже независимую от людей идею.
Что это за жена у Мильёна? Не стоит ли за фасадом «Здоровой семьи» иной иерархии? Да и болезнь его – не результат ли мистического прорыва? В оконцовке-то всё устроилось для него давно желанным образом, а болезнь волшебно улетучилась.
В связи с его женой я вспомнил, как ещё по Ирке Ведьме из Пауково сделал вывод, что становясь на путь колдовства, женщины начинают сознательно придавать себе непривлекательности с точки зрения стандартов – как селянки мазали лицо сажей при приближении оккупантов. Прозревающим истину не до отвлекающих глупостей.
Так вот в чём дело… Может, и Ирен потому такая стала? Почему она направила меня к Мильёну – может, какие-то координаторы нашли, что и я уже дозрел, заслужил смиренным дворничеством продвижки? Всё неспроста! А что это за духовник там у Ирен? Якобы отец святой, а на самом деле…
Да и Инка тоже что-то потолстела. Может, Морковка – это на самом деле тоже бенефактор?
- Признавайся, - пытал я Инку, - это ты подбросила на мою помойку книжку про суфиев?
- Что ещё за книжка? – смеялась Инка. – Дай мне её, я её выброшу в окно.
Понятно…
Она тогда думала, что я её прикалываю, а я ведь не шутил – я всерьёз ебанулся, мне казалось, что меня осенило – вот оно как на самом деле! Всё один к одному – книжка, потом Миль с рагами и Индией, и вот – итоговое гербалайфное действо, и я теперь тоже вхож в этот круг, принят на первый курс этого миллионолетнего ордена.
Интересно, а нет ли у Галочки тайного наставника? Не мама же её… А! Она сама – учитель! Дурит мне бошку, как Ходжа Насреддин, со своими клизмами, а на самом деле – кто позвал меня “Yes” смотреть, чтоб я имел возможность Ирен позвонить? Инка, небось, ей шепнула – кажется, дозрел, можно открывать щёлку в иную жизнь, тесные врата.
Слава Джа, хоть Оля не утратила внешней привлекательности, как полагается у этих магов – или, может, это только на сцене?
Это была лёгкая паранойя, так бывает. Это вообще-то очень красивое и самое романтичное состояние. Во всём начинаешь вдруг видеть скрытые символы и намёки – в книжках, в стихах, в песнях. Оказывается, что все, подключенные к одному и тому же источнику истины, поют об одном и том же. Особенно детские песенки – их пишут самые изощрённые маги. Хоть «Чунга-Чанга», хоть «Поделись улыбкою своей» – чисто суфийские формулы.
Эти намёки можно педантично разыскать и умом, но тут совсем другое состояние – тут начинаешь поэтически плыть в безобразной до кошмара, но до смерти любимой правде, по сравнению с которой просто смешно – все эти трусики на пляже, все эти Мерседесы, все эти хорошо и плохо.
Собственно, всё так и есть – и истина, и всё остальное, - но я почему называю это паранойей? Потому что почувствовав вдруг рядом дыхание этой истины, начинаешь воображать в человеческих категориях – организация, подполье, комсомольские взносы, ячейки. Хотя на самом деле, когда в воплощении начинается такой этап, форма костенеет, и истина сразу теряется.
Это то, ощущая что, хочется умереть, так ты недостоин. И хочется жить вечно, так это прекрасно и беспредельно. Хочется плакать, так всех жалко, и одновременно радостно, потому что только этим, о чём идёт речь, они все и спасаются, несмотря ни на что, только из-за этого всё это ещё не ебануло и, даст Джа, ещё продержится, хотя мощность того, что так и ждёт детонации, растёт с каждым мигом. Возможно, каждый Олин сэйшен ещё на сколько-то отдаляет Армагеддон этого царства, где всё имеет цену.
Если назвать это словом, потянутся другие слова – такой-то и такой-то, так-то и так-то – и это улетучится. Останется опять политика, чёрное колдовство. Вампирская цепочка отсоса шоу-бизнеса. А это – неуловимо никакими клетками и пеленгаторами.
Военная тайна состоит в том, что никакой тайны нет.
Мы забили стрелу, чтоб сходить на репетицию Мильёна, но то ли я, то ли он перепутали то ли время, то ли место встречи. Я думал, что возле «Кутузовской», а он – что возле дома, в который он не раз приходил ко мне, когда я впервые работал дворником и у нас ещё было всё впереди.
Я ждал Миля целый час. На самом деле я очень боялся идти туда, куда мы собирались. Если бы я умел хоть на чём-нибудь на должном уровне играть, а так – в качестве кого я туда вопрусь? Если бы хоть за долгие годы общения с Коровьевым ну хоть дэцел поднаторел в звукооператорстве… Чё я вообще туда иду? Однако – иной дороги нет. Больше идти некуда, а пора бы уж куда-нибудь.
Была жара, очень хотелось хапнуть пивка, но я взял пепси.
Когда на следующее утро я сидел на унитазе, в голове сам собою сложился стишок, адресованный Мильёну.
Кассеты Свиндлера не произвели на него никакого впечатления. Мы вот с Галкой от некоторых песен просто тащились первое время. Когда Свиндлер прислал эти кассеты, мы только их и слушали. А Мильён сказал, что ему понравились только две песни: «Не играй» и «Стены». Я, когда приехал домой, специально прослушал эти песни – нет, ничего особенного, самые невыразительные по всем параметрам, чем же они могли понравиться?
И тут меня вдруг осенило: это суфийская шифровка, догадался Штырлиц. И чтобы показать, что я принял и раскодировал мэссидж, я в уме ответил Мильёну:
о нет, мой друг, я не играю
и не ищу дороги к раю
а просто стены заебали
и без друзей живу в подвале
Тотчас из жопы пошла кровь, это у меня бывает иногда в периоды обострённых переживаний при очередном просветлении.
Любимые суфийские символы: игра, рай, стены, друг.
Или он думает, что я ищу дорогу к Оле? Я сразу маскируюсь.
Запечатал в конверт и отправил. А через пару часов, когда я бегал по трассе с газетами и атласами, то среди машин, то по грязно-лужной обочине, вдруг досочинилась ещё более суфийская концовка:
но я люблю играть, о боги
и рай люблю я, и дороги
и не боюсь сидеть послушно
в подвале, сколько будет нужно
И отправил в другом конверте. Причём первое четверостишие я написал чёрной пастой, а адрес красной, а второе наоборот – красной, а адрес чёрной. Ну так, чтоб хоть немножко запутать.
Вроде ничего особенного, но на Мильёна это так подействовало, что через пару дней я получил телеграмму о новой стрелке. Бедный Мильён! Интересно, сколько стоит сейчас телеграмма?
На репетицию, правда, мы опять не попали – почему-то там её отменили. Раз уж встретились, сели на автобус и поехали к Милю. Он ожидал в гости своего приятеля с женой. Николá – ударение на последний слог. Дома Миль показал мне фотографию, на которой Никола играет на пиле перед публикой. На самой что ни на есть, на двуручной.
Николá оказался очкастым, чернявым и картавым. Он принёс пузырь вина и почему-то курицу, которую жена Мильёна сразу принялась готовить. Кажется, дело было в том, что их дети провели у Мильёна день, пока Николá с женой были чем-то заняты.
На пиле, сказал Николá, он больше не играет. Теперь он увлечён фламенко, поведал он таинственно, а это такое…
Пузырь мигом кончился, и виртуоз пилы бодро предложил сходить в палатку за продолжением – пить так уж пить, чего уж там.
- Да понимаешь, - затянул Мильён, - пенсию всё задерживают, вот скоро пособие должны получить…
- Нет проблем, - остановил его Николá, - у меня деньги есть!
И пошли мы по палаткам, и вот тут и начал я разочаровываться в этих самых суфиях.
Мы обошли палаток десять, все, что были на перекрёстке, везде было одно и то же, хотя почему-то и с вариациями цен.
Так, «Хванчкара» – 17, а тут, гляди – 16, а вот опять 17, да тут у них одна мафия. Вообще-то говорят, что все грузинские вина сейчас поддельные – и впрямь, что-то дёшево для «Хванчкары». А что это за молдавский портвейн за 10? А может, лучше шампанского?
В итоге Николá купил «Букет Кубани» за 13. Одну бутылку. Нас трое да две не отказывающиеся пить жены.
Нет, ну то есть понятно, нет у человека сейчас больших возможностей, бывает. Но с какой целью мы так долго и торжественно шарахались? Может, он считал неудобным предложить мне скинуться и ждал, пока я сам догадаюсь? Я, конечно, тоже сразу купил портвейна за 10, поскольку у меня действительно больше не было, но я ведь и не вызывался угощать. Я просто готов вывернуть карманы и без этих понтов с «Хванчкарой» посмотреть – на сколько портвейна хватает? Ну-ка, кто ещё пару тыщ добавит?
А то он выбирает, чем же нас угостить, а мы ходим за ним, как овечки. Может, «Хванчкары» хотите? Так вы скажите, я вам куплю, раз с пенсией напряги.
Оправдываюсь: я собирался на репетицию, принял компанию Миля за непьющих и был финансово неподготовлен к приобретению спиртного. А в гости к его жене я пришёл не с пустыми руками – специально на репетицию я на оптовом купил двухлитровик пепси.
Древний орден – понятно… Только не суфии это, а ровно наоборот. Линкольн и Эйнштейн, доллар и атомная бомба.
То-то мне гербалайф вспомнился. Уже и Ольгу берут в оборот – компакты, тиражи и дальше распутье: либо на Канары, как Бутсов[8], стать частью их и разучиться вякать, либо – вслед за СашБашем, продана смерть моя.
Паранойя бесследно исчезла, мир снова перестал быть таинственным, всё заняло свои места и стало по-взрослому ясным. Кровотечение из жопы тоже прекратилось – закрылась щель, как сказал бы дон Хуан.
А на репетицию я всё-таки попал, как раз и ганджи к этому времени надыбал, так что самым непринуждённым образом пришёлся ко двору. Чтобы укрепить связь, вызвался писать им тексты. Под диктовку басиста Олега я записал несколько рыб, и на следующую репетицию принёс один текст на их размер и на всякий случай подборку своих старых сочинений. Текст мой Олегу не понравился, он оставил свой. Я не спорил – я не умею писать по заказу, и мой текст был не стихами, а буриме. Но по любому лучше, чем у него, хоть осмысленный. А он говорит: как раз осмысленности я и избегаю. Ладно, дело не в смысле, но по-моему, просто не звучит: «Думай не думай / всё есть как есть / смысл этой увертюры / не глотая съесть». Ну как это – не глотая? Может, «не жевая»? Но так не говорят, надо: не жуя…
Ну ладно, его дело. Главное, я показал, что тоже что-то умею, и теперь могу, не комплексуя, приходить сюда, накуриваться с ребятами и отлетать от их музыки. Вначале они обычно прогоняли по несколько раз одну и ту же песню, и я поражался, как им самим она не становится противной после стольких повторений. Но потом они заводили какую-нибудь тему на полчаса, и так ништяк у них начинало получаться! Я потом совершенно правдиво заверял их в том, что никогда в жизни ни от чего так не тащился. Хотя в записи такие вещи уже не производят такого впечатления – они лишь слабое напоминание, намёк на то, что творилось там тогда, когда это записывалось. Коллективный вызов того, что зафиксировать невозможно.
Вообще-то мне по-прежнему было страшно к ним ходить. В смысле – страшно неудобно, стыдно. Хуля я повадился? Особенно после того, как однажды я пришёл без травушки, а у Севы как раз был гашик, и он, в тот вечер по какому-то поводу сильно пьяный и невменяемый, спрашивал меня: «А у тебя есть ганджа?» – «Смотря что понимать под этим словом», - уклончиво отвечал я. «Ну что тут понимать? Вот она, видишь – ганджа. У меня есть, а у тебя что – нет?»
Он разводил, а я, дурачок, вёлся.
В общем, каждый раз я пересиливал себя. Я прямо заставлял себя поехать хотя бы до «Кутузовской», иногда даже проезжал мимо «Киевской», но потом всё же возвращал себя. Потом ноги отказывались нести меня к троллейбусу, и я вступал в единоборство с ними. И даже подходя уже к спортзалу, в подвале которого проходили репетиции, я в любой момент готов был повернуть обратно. Какое облегчение испытал я однажды, когда репетиция почему-то не состоялась! Как летел обратно к метро.
Но больше ходить было некуда.
К тому же я дожидался, когда же Ольга придёт посмотреть, с кем это ещё играет Сева. Ничто другое не заставило бы меня так упорно бороться со своими закомплексованными ногами.
Когда мы вернулись в Марьино, Севка со Славкой уже где-то похмелились и находились в прекрасном расположении духа. Пока я, прыгая на одной ноге, таскал в машину всё необходимое на море – одеяла, котелок с чайником, несколько дровеняк на первое время, - Севка таскался за мною по пятам и уговаривал никуда не ехать: куда ты с такой ногой, и с похмелья, и неизвестно, как поведёт себя машина. Я только ещё целеустремлённее скакал от дома к машине и обратно. Когда передо мной маячит символ вроде Оли, я целый день могу так пропрыгать, и очень энергично. Когда я в Питере навещал одну очень аппетитную Элю, от метро до её дома я всегда бежал, просто не мог иначе, да и до Инкиного флэта от метро когда-то бегал, раз как-то спрыгнул с поезда и распорол руку – так невыносимо было ждать до вокзала и потом ехать обратно.
А Севке страстно хотелось продолжения банкета. Ну кто ж виноват, что он такой вахлак, что его даже на море взять как-то неприлично. У их поколения было понятие, что ништяк быть цивилом, он среди них ещё и рокенрольщик: и философствовать пытается, и религией где-то интересуется, и колдовством – инстинктивно, наверно… И всё равно – вот не свой он! Даже не знаю, в чём дело. И совсем не уверен в том, как это чувствуют остальные. Вот я, например, так: как представлю, как он вечеряет с экземпляром типа его жены – зоофилия мне понятней. Но это, допустим, мои личные заёбы, а общедоступно – ну все же знают, что такое цивил. Всё равно что с участковым сидеть возле костра, как бы он ни уверял, что на самом деле тоже рокенрольщик. Как бы ни пытался понять нас – потому что понимать как раз таки и нечего.
Пока мы с Мишелькой ездили, Оля успела обхаерать Мышу. Я был очень разочарован – из загадочного розенкрейцера мой спутник оборотился в простого, как коромысло, Иванушку. А на море на другой день Мыша ещё и побрился и вообще превратился в самого что ни на есть вологодского балалаечника.
Сперва мы поехали к родителям Мильёна – он зачем-то передал со мною им письмо. Совсем не в ту сторону, куда мы собирались, но всего
Потом заехали на почтамт. Пока Оля с Мышей ходили звонить, я решил посмотреть, что это за странный звук под капотом. Оказалось – пиздец новым аккумулятору и вентилятору. Крепления старого аккумулятора сгнили и отвалились, когда я стал их откручивать. Новый аккумулятор я хотел привязать, но Мишелька сказал: да куда он денется, и я его послушал. А к дому родителей Мильёна мы подъезжали по таким буеракам, что аккумулятор сдвинулся, и вращающийся вентилятор стал задевать за него. От вентилятора ещё что-то осталось, но в крайней банке аккумулятора он уже успел проскрести дырку, из которой уже успело вытечь приличное количество кислоты, пузырящейся на кузовных железяках.
Мы пытались залепить течь скотчем, позже попробовали клей, потом некоторое время помогало, когда я заплавлял дыру раскалённой монтировкой, но каждый раз кислота снова прогрызала дырку, и осенью, уже в Москве пришлось купить новый аккумулятор. Вентилятор я заменил ещё раньше.
Когда мы выезжали на шоссе на Евпаторию, нас тормознул на посту мусор, просто проверить московские номера. Я запрыгал к нему на одной ноге, он даже смутился: ну зачем же, я бы сам подошёл. И сразу отпустил.
Выезжая из Москвы, я ещё не знал, в какой последовательности мы будем посещать мои места силы. После всего случившегося мне остро хотелось отвезти Олю туда, где максимально вероятно уединение.
Мы говорим в нашей компании «Трахкранкурт» или «Тархунбрут» с тех пор, как я возил туда Мастера, и он всё делал вид, что никак не может запомнить такое длинное слово – «Тарханкут», и как только его не переиначивал. На Трахкранкурте Мастер отличился, купив живого барана, которого хозяин при нас выбрал из стада и освежевал. Потом на берегу мы пытались зажарить его целиком и жарили целый день, но он так и остался полусырым, хотя здорово провонял дымом.
До Тарханкута не каждый станет добираться.
По дороге я рассказывал, как приехали ко мне как-то раз две герлы из Питера, Элен и Нэт, и должны были подтянуться ещё Боба с Колбасевичем, но они тогда как раз только-только ударились в бизнес, и поскольку неизвестно было, когда же они точно освободятся, я решил ехать с герлами на море, а им оставил в Марьино подробный план. Поезд с герлами пришёл ранним утром, мы сразу выехали и вечером уже расположились в пещере. Через три дня Тарханкутское солнце сразу после Питера так колбаснуло герлов, что мы решили возвращаться. Ночью мы дошли по степи до Оленевки, прикорнули возле автобусной остановки, до утра нас жрали комары, а утром уехали на единственном в сутки (кроме него есть только пара автобусов до Черноморского) автобусе до Евпатории, оттуда на электричке без проблем добрались до Симфика, и в Марьино были, когда солнце склонялось к закату. Там мы узнали, что Боба с Колбасевичем уже ездили на Трахкранкурт, вернулись и поехали в Гурзуф. Поужинав и, нагревая воду кипятильником, помывшись, мы сели в троллейбус и уже в темноте вышли из просифоненного на перевале салона в пряное тепло Южного берега – я очень люблю этот момент уже ожидаемого, но всегда опять изумляющего перехода в совсем иной мир, разительно отличающийся от всего прочего Крыма особо концентрированной насыщенностью тепла, ночного стрёкота и дурманящих запахов.
Бобу с Колбасевичем мы нашли на моём обычном месте на нудистском пляже, который, собственно, мы с Бобой и Шурой Уткиным и сделали нудистским, поселившись на нём в 87-м году. Тогда в последней судороге агонии застоя бульдозеры успели таки завалить и забетонировать Голубовские камни, и там нам и подсказали, что есть ещё такой же системный пляж в Гурузуфе.
Хипаки жили на нём наверху в кустах. До утра они пели и тусовались у костра, днём спали в раскалённых пахнущих носками палатках и только к вечеру спускались на пляж, зябко сутулясь, обнажая белёсые телеса, иногда испуганно окунаясь, после чего плелись в Гурзуф искать для начала пива и водки на ночь. Тусовщики часто так и уезжают незагорелыми, с красными болячками на синей блокадной коже, они так привыкли, другой себе не представляют, а потому не очень желают.
Мы поселились на берегу, потому что на Голубовских камнях тусовщики уже прокололи все наши надувные матрасы, да и с сигаретами, сами знаете, как обычно на тусовке. А у моря и сон лучше, и к тому же в кустах кусаются мошки, от которых у меня надолго отекает фэйс – Инка, когда впервые увидела, даже заплакала. Палатки у нас не было, летом достаточно одеял и целлофана.
Начиналась перестройка, появлялись пляжи, на которых стали собираться принципиально загорающие голыми. Раньше, по слухам, такие пляжи были только в Прибалтике. И именно прибалты и поддержали первыми нашу компанию, когда проснувшись утром, мы стали купаться голыми, да так и не стали потом одеваться. Подошедший толстяк стал что-то спрашивать у нас на трёх языках, мы думали, он сердится, оказалось – просто никак не мог поверить, что мы русские. Прибалты сразу понаприглашали своих знакомых со всего побережья. Позже мы были в восторге, услышав, как экскурсовод на проплывающем мимо прогулочном катере говорит в мегафон: «Мы проплываем мимо нудистского пляжа города Гурзуфа».
Боба с Колбасевичем спали на взятых у моей мамы половичках, сложив на животе руки, как выставленные для отпевания. Я разбудил их: вот разливуха, вот герлы! У них была ганджа.
Оказалось: целый день они потратили на начертанный мною маршрут Евпатория-Черноморское-Оленевка, и им оставалось только пересечь пешком километров 6-8 мыса, чтобы выйти к обрыву. Но уже начинало темнеть, и они решили, что не смогут найти нас в темноте в скалах. На самом деле, конечно, элементарно, было бы желание. Заночевали они в скирде, а утром Колбасевич, пройдя совсем немного по раскалённой бескрайней степи, заявил, что возвращается, и всю дорогу до Симфика твердил: на хуй, на хуй этот Крым! Боба еле отговорил его сразу ехать в аэропорт, втолковывал, что не весь Крым такой, что в Гурзуфе совсем по-другому.
Игор же с Коровьевым просто обиделись на меня после того, как я два дня таскал их с рюкзаками по Трахкранкурту. Игор был с первой женой, Коровьев с герлой на четвёртом месяце. Ну так и у меня Инка была на третьем, а ей всё нравилось. «Я не для того целый год работал, чтобы и в отпуске так надрываться!» – возмущался Игор, он тогда только что сменил бас-гитару на бульдозер, и у него впервые в жизни были довольно приличные по застойным понятиям деньги.
По дороге они во встретившемся нам колхозном саду объелись зелёных персиков и потом в Симфике несколько дней сокрушительно поносили. А может, это Инка им просрачку подкинула, она это умеет, если кто с ней ругается – обязательно обосрётся, проверено не раз.
Неделю потом просидели они в Симфике и так и уехали, больше не решившись ездить ни на какое море. Только Игор с Леной съездили вдвоём на денёк в Ялту. Это мне известно, как хочется оторваться от тусовки и погулять, как душа желает. Как-то раз мы возвращались с того же Трахкранбрута, и одна герла в Евпатории, пока мы ждали электричку, потихоньку исчезла, а я пошёл искать сигареты и случайно увидел её в кафе, пожирающую мороженое. Всю дорогу у неё не было денег по определению.
Испугавшие Колбасевича выжженные холмы неожиданно обрываются отвесной скалой. После уныло-жёлтого и костно-белого в глаза ударяет синь и зелень, багряные водоросли на камнях и между ними лимонные лужайки песка на дне. К морю можно спуститься только в некоторых местах, и поэтому когда живёшь на берегу, чувствуешь себя особенно надёжно отрезанным от мира: сверху иной раз и не видно, что там происходит в прибрежных гротах.
Как-то раз я ночевал там один, символически притащив с собою пишмашинку. Ночью было жутковато, казалось, что из вечного океана на древние скалы обязано выползти доисторическое существо.
Элеонора, когда мы выпиваем в Москве, обычно признаётся, что больше всего ей хотелось бы оказаться на этих скалах, причём в любое время года. Ну, зимой приехать сюда на машине было бы, конечно, романтично, но ночевать – это вряд ли.
А мне вот больше всего хотелось бы, чтоб Оля сочинила что-нибудь ещё не хуже «Удивись мне». Если бы мне предложили – или ты лично живёшь год на Ямайке, имея счёт в Нью-Йоркском банке, или Оля сочиняет новую рэгги-песенку – как вы думаете, что бы я выбрал?
Не доезжая Евпатории, решили искупаться – наконец впервые в этом году море! Волны были довольно большие, но я одобрительно отметил, что Олю это не испугало. Хотя она и говорила, что плавает плохо, оказалось, что вполне прилично для девушки с Урала.
Я продолжал скакать на одной ноге, мои попытки расщёлкнуть коленку ни к чему не приводили.
До Черноморского я ехал 120 км/час: Оля недоумевала, зачем так далеко ехать и когда это наконец кончится, вот я и старался скорее.
В Черноморском решили сходить в магазин. Я нашёл хорошее место для машины, с видом на уютную бухточку, в которой болтались живописные рыбачьи баркасы. Все ушли, а я включил «Титаник» и кайфовал.
Мишелька опять отличился – купил две бутылки муската, белого и чёрного. Ещё они взяли пива – специально для тебя, Фил, как доберёмся. А сами уже закатили по стакану портвейна, в смысле, Мишель с Элеонорой.
- Понятно, что ты не пьёшь, - сказал Мишелька Оле, - но это мой тебе подарок, и это ты должна попробовать.
Оля возмущённо пожимала плечами.
Позже, в Симеизе, я обратил внимание Оли на мускат в коммерческой палатке – 32 гривны. «Как? – изумилась Оля. – Мишель покупал такое дорогое вино? Зачем?» – «Он же специально сказал: это тебе мой ПОДАРОК. Вот так ему захотелось удивить тебя, например, вкусом такого вина. Да и так ли уж дорого – меньше двадцати баксов».
Я скрыл, что это здесь, на ЮБК такие заряженные цены, чтоб потрошить столичных карасей, а в Черноморском белый мускат стоил 10, а чёрный 14 гривен, тоже вообще-то не слабо, в 10 раз дороже разливухи.
Пустынная дорога до Оленевки. Консервный завод, на котором я когда-то работал целый месяц. Через три дня после того, как я устроился на работу, меня вызвал на переговоры Севка и сообщил, что оставшаяся в Симфике Инка в больнице с аппендицитом, а пятимесячного Филю они взяли к себе (позже я узнал – через день вернули моей маме: он плачет ночью, спать не даёт). Я никак не отреагировал, лишний раз показав своим родственникам, какая я бесчувственная скотина. А что бы изменилось, если бы я бросил работу, едва устроившись? Аппендицит уже вырезали, а в младенцах я не волоку. А так я заработал 100 с чем-то рублей (и месяц бесплатно харчевался), которые в августе нам с Инкой и Филей очень пригодились.
Выезжаем на грунтовую дорогу, позади шлейф пыли. Это не то что пешком, вскоре уже видно море, но дорога уходит куда-то вбок, вдоль, и я направляю машину на целину. В стёкла бьются кузнечики, камни очищают днище от ржавчины.
Мы подъезжаем к тому месту, где спуститься можно только по привязанной к скале проволоке, а в море высится каменный остров. Оля щёлкает фотоаппаратом, а я открываю пиво.
В других местах Крыма берег приветлив, с уютными пляжами, с лесистыми горами. На Трахкранкурте появляется ощущение края земли, далёкого пролива Лаперуза. Не в море, но в океан должны так неприступно обрываться скалы. И никаких людей, только вдалеке на кончике мыса маяк, а здесь лишь стоит полузаброшенный окружённый проволокой домик рыбаков.
По берегу я проехал, а они прошли до того места, где выступающий мысок насквозь пронзает естественный тоннель, а сверху в этот тоннель можно свалиться сквозь дырку естественного колодца. Именно сюда мы приехали впервые, когда я прочитал о Тарханкуте в советской краеведческой брошюре. Тогда со мною были и Ирен, и Мишелька, который стал потом моим надёжным товарищем по автостопу. Он и сейчас надёжный, но того мышечного рельефа у него уже нет. Я был бы счастлив, если бы все окружающие соответствовали классическим представлениям о красоте, но для этого нужно прикладывать усилия, а им лень, вот и становятся иллюстрациями к «Человеку, потерявшему своё лицо» Беляева. В детстве я прочитал практически всего Беляева, из критической статьи выписал в блокнот все упоминаемые наименования и потом вычёркивал прочитанные. В двух словах: мужик придумал, как нужным подбором гормонов можно придавать телу любую форму, сперва себя сделал красавцем, а потом стал мстить всем гнобившим его богачам, подкупал слуг, чтоб посыпали хозяевам гормонов, в итоге все они стали выглядеть крайне карикатурно, в книжке были картинки, и вот они мне больше всего и запомнились, а в сюжете не уверен. Ещё, кстати, был другой вариант романа – «Человек, нашедший своё лицо», но картинки там были такие же.
Мы нашли грот, в котором жили тогда. Оказалось, пробраться в него не так-то просто. Мишелька с уважением шепнул мне, как Ольга ловко ползает по обрывам. Рюкзаки мы спустили на верёвке.
Вдалеке стояли машины и палатки, я отогнал туда нашу и попросил присмотреть за ней. Ко мне отнеслись с сочувствием, так отчаянно прыгал я на одной ноге. Даже дали палку в качестве костыля. Это ништяк, с дровами тут напряжёнка.
Доковыляв обратно, я сбросил палку со скалы и исполнил рискованный номер – собрав всю свою безупречность, прополз с уступа на уступ над бездной. Если уж Оля смогла… Когда мы с Элен были на Трахкранкурте, уже в другой раз, там, где проволока, с этой проволоки при нас упал один парень, который по пьянке хотел показать, что он альпинист. Из Оленевки пришёл катер, и его увезли, сказали, что похоже на перелом позвоночника.
Повалившись на одеяло, я подложил левую ногу под пятку правой и попросил Мышу сесть на неё. Бесполезно.
Я сполз к морю. Тут не пляж, при таком волнении запросто может шарахнуть о ноздреватый камень, но я прыгнул и поплыл – возвращение в лоно. И чудо свершилось – нога щёлкнула, ура! Когда я вылез на берег, опухшая коленка болела, но на ногу вполне можно было наступать.
Не знаю, что подумали люди, снабдившие меня костылём, когда я вскоре бодро прибежал за чем-то к машине.
5. Ведь я такая цаца
До темноты мы успели обжить грот, разложив всякие нужные мелочи по выступам и впадинам, организовать костёр и что-то там сварить в котелке, возможно даже – с тушёнкой: котелок-то один на всех… не помню: возможно, отлили Оле с Мышей варёных овощей, а уж потом заправили тушёнкой?
Костёр разводили мужчины, а овощи чистила Элеонора. Как-то сразу она дистанционировалась от Оли. Вот с Инкой она почему-то корефанит, хуй их разберёт почему. С Галкой уже на дистанции, но хоть пытается имитировать теплоту. С Олей она с первого же дня заняла позицию «ты одна самка, а я совсем другая». У вас свои таланты, а мы о своих промолчим. Она, конечно, скажет, что это Оля с самого начала так себя повела. А Оля может сказать то же самое. А я скажу, что Олю уже любят многие, и количество тех, кто ещё полюбит – беспредельно, у Элеоноры же это дело расписано, как пенсия, до самой смерти – Мишелька да Гийка, одёжка, пока не протянешь ножки.
А вообще-то Оля, профессиональный лидер, легко нас зашнырила. Как на тюрьмушке – один раз запарил для кого-то чайку якобы по-братски, и до конца срока так и будешь заваривать. То есть никто из нас и не был против такой её роли, не знаю только, как Элеонора, наверно, ей всё же обидно было быть золушкой.
Расстелив перед гротом одеяла, мы стали дегустировать мускат в ожидании падающих звёзд и неопознанных объектов. В Гурзуфе и прочих популярных местах такого неба не увидишь – откуда-нибудь обязательно идёт электрическая засветка.
Мускат Оля одобрила, и мы припрятали его специально для неё. Предусмотрительный Мишелька запас и обычного портвейна.
Я отломил ещё дэцел от Парфёновской шишечки, не стал курковать от Мишельки. Мыша, который в Москве всегда пыхал со всеми с большим удовольствием, в присутствии строгой Оли решил воздержаться.
На ночлег переместились обратно в грот, откуда вид уже не тот, но для порядка. Разместились следующим образом: в серединке герлы, Михаилы стерегут по бокам, как архангелы, а мне ничего не оставалось, кроме как прикорнуть возле Мыши. Не в серединке же между герлов мне лежать, хотя это было бы самый ништяк…
Утром возникла проблема нудизма.
А это такая проблема… Когда уже становишься нудистом, то идёшь по пляжу и поражаешься уродству человеческого сознания: вот ведь, подставляют себя солнцу, значит, считают, что это полезно, и при этом укрывают от пользы некоторые участки тела, причём особенно подчёркивает условность этой необходимости тот факт, что женские соски прятать нужно, а мужские нет. Правда, последнее время показывать сиськи уже разрешили, и даже жопу, остались одни гениталии, точно указывая вектор, куда дует этот ветер.
Вообще мне кажется, что купальники особенно наглядно выразили ханжество общественного сознания. Если уж хочешь укрываться, так загорай в шортах, в юбке, в семейных трусах. Нет, нужно париться в натирающей промежность синтетике (раньше летом у меня всегда были красные воспалённые полосы на ногах рядом с яйцами), скупердяйски обнажая каждый лишний сантиметр кожи. С тем же успехом можно было бы просто загорать в гандоне.
Когда мы были на Трахкранкурте с Игорем и Коровьевым, мы тогда ещё не были нудистами, и мне сейчас просто странно вспоминать, как мы, три семейные пары без единого постороннего свидетеля, ходили прятаться друг от друга, чтобы позагорать голыми, а вместе тусовались в противных мокрых плаварях. Возможно, психология была такая: если я сниму трусы, не воспримут ли это прочие мужики как посягательство на их баб? А бабы, наверно, думают: если я разденусь, не предъявит ли мне мой мужик, что я предоставляю себя другим? У баб вообще более прочные кодировки. Когда тем же летом, но уже в Гурзуфе мы стали нудистами, Инка яростно не желала снимать трусы, аргументируя: вот если бы у меня была идеальная фигура… Какое трусы имеют отношение к фигуре? Причём у Инки как раз таки обнажённая грудь так себе, а в области трусов всё было в полном порядке. На следующее лето Инка уже так же безапелляционно презирала тех, кто не снимает трусы.
А насчёт посягательств – по иронии знамения именно Игор и Коровьев были главными моими партнёрами по групнякам. Любовь любовью, но ебаться мне вообще-то больше нравится групповухой, была б возможность, я б только так и ебался. В реальности приходится коллекционировать воспоминания о мистериях, чтобы стимулировать себя ими при банальных контактах. Кого мы только не услаждали с Коровьевым, в том числе и Инку, и его Лору, и всем всё нравилось, и какими значит дураками мы были, что не додумались до этого ещё на Трахкранкурте. С Игорем мы тоже переебали кучу моих герлов, а вот своими он никогда не делился, только однажды, и то случайно, потому, что Галка помогла, и ему ничего не оставалось. Да и Коровьев тоже не выдержал в оконцовке, заревновал свою Лору, правда, не ко мне, а вообще, так что в итоге никто не вынес испытания, все любят не женщину, а себя.
С нудизмом всё же проще.
Проблема заключалась в следующем: начинать загорать нужно обязательно голым, иначе позорные следы от труселей останутся на всё лето. Потом уже, когда кожа уже обветрилась после зимы, можно и в трусах ходить, если обстоятельства затащили на общественный пляж. Но первый загар – самый решающий.
Проблема была, разумеется, в Оле, в ком же ещё. Мыша, глядя на нас, сразу разделся и держался, пожалуй, раскованней всех. Мы с Мишелькой то снимали трусы, чтоб искупаться и обсохнуть, то опять надевали – якобы холодно (трусы у нас были семейные). Элеонора отошла немного в сторону и подставила себя солнцу – вроде и не прячется, но и не демонстративно у всех на виду. А Оля сперва даже не снимала зелёную выцветшую футболку и старалась прятаться в тени.
Это правильно. В этом месте Крыма самое жестокое излучение солнца, в Гурзуфе гораздо мягче. Неважно, почему так, но проверено. Когда мы с Нэт прогулялись по берегу в первый же её день после Питера, её выхлестнуло. Обратно она брела, закрыв глаза и спотыкаясь, и в последующие дни лежала под простынёй не вставая. На другой день мы с Элен поплавали на надувном матрасе, и её постигла та же участь. Даже ебаться всем вместе больше не получалось.
Потом Оля показала свои сосочки, но вообще-то действительно в этот раз тут было прохладно, небывало для начала июля. Оля в Москве всё переживала, не будет ли в Крыму слишком жарко, а то она совершенно не переносит жару. И наколдовала – погода была по её заказу до самого Симеиза, в котором я познакомился с Умкой. Умка жару понимает и умеет ценить.
Коровьев, когда у него повернулась башня от грибочков (башню не сорвало, просто прокрутило), уверял меня, что Ира Ведьма умеет влиять на погоду, и тоже пытался этому учиться. Причём, в отличие от Иры, Гессе он никогда не читал.
- А что это за Коровьев, которого ты всё время упоминаешь? – спросила Оля.
Может, я не прав, но после прослушивания ранних записей «Титаника» я увидел, что песни с рэгги-компакта не появились бы, если бы не Славик Индеец. Переход на следующий уровень.
Точно так же мне кажется, что без Коровьева не было бы альбома «О безответной любви к Родине».
С Коровьевым я познакомился сразу в колхозе ещё до его первого, а моего второго курса. Знакомство начал его будущий сосед по общаге Дюша, Коровьев больше помалкивал, начали мы с музыки и органично перешли на сорта трав, Дюша нахваливал дальневосточную, а Коровьев рассказал про башкирскую. После колхоза я съездил в Крым и привёз им нашей.
Свиндлер в это время устроился на лимит, общага его чисто по знамению оказалась в двух шагах от нашей, и в нашей он методично музицировал со всеми, с кем получалось. В одном из его составов под названием «Идиот» я был вокалистом, то есть, собственно, идиотом, катающимся, кувыркающимся и рычащим зарифмованные лозунги, которых всё равно никто не разбирал в общем шуме, главным в этом проекте, по-моему, было именно моё кривлянье, да ещё то, что во время показательных выступлений мы были сильно размалёваны.
Потом мы вдвоём со Свиндлером записали на Коровьевский мафон (злодейски съев припасённую им сгущёнку) две песни про гитарировавшего в «Идиоте» Дюшу, после прослушивания которых Дюша покинул группу, и она переименовалась в «Негодяев» – так назвал нас на прощанье Дюша. Одна песня была про то, как тусовка не даёт Дюше ложиться спать (а на самом деле про то, как мы со Свиндлером кокетничали с его свежеобретённой женой, а Дюша делал вид, что пора спать), а вторая, очень лиричная песня «Четвёртые петухи», была про то, как Коровьев ночью не даёт им с Диной спокойно поебаться.
Дюша с Диной как молодожёны давно должны были получить отдельную комнату, но им всё было не до того, да и вломак переселяться от Коровьева. И вот как-то раз отбиваются они, ждут, пока заснёт Коровьев, и потихоньку начинают ласкать друг дружку. Тут вдруг Коровьев как бы во сне произносит: «Па-ба-ба-бам» на мотив пятой симфонии Бетховена. Молодожёны затаились. Наконец Дюша спрашивает: «Вова, ты спишь?» Коровьев не отвечает. «Да спит он», - успокаиваются любовники и продолжают. Коровьев даёт им перейти к совокуплению и снова произносит отчётливо: «Па-ба-ба-бам!» … «Вова, ты спишь?» И так часа два, пока у них окончательно не пропадает желание. Не знаю наверняка, но вполне возможно, что так – каждую ночь.
В итоге они начали ходить по инстанциям, а пока переселились ко мне. Вот тут мы со Свиндлером и сочинили эти песни. И сразу я снова стал жить один.
Но потом Свиндлер решил, что всё это несерьёзно, набрал где-то чуть ли не джазовых музыкантов, с которыми назвался «Лес»: 1) Ленинградский Yes, 2) в пику «Джунглям». И стал играть заумные инструменталы. Мне казалось, что оставленное им направление гораздо перспективней – при всей несообразности моего пения большая часть инди-групп поёт не лучше. Но Свидлеру хотелось развернуться со своей гитарой – Коровьев называл его стиль спортивным, поскольку главный упор делался на скорость. «Лес» вошли в рок-клуб, Коровьев стал их звукооператором, и пришло время искать директора. С этим директором из среды советских подпольных организаторов сэйшенов, Свиндлер замочил другого деятеля из той же среды, и отправились они оба на зону. На самом деле там столкнулись два клана одной национальности, процесс даже в «600 секунд» трижды показывали, а Свиндлер пошёл за крайнего. В момент совершения убийства в квартире, кроме обвиняемых и терпилы, никого не было, и кто же именно его совершил, неизвестно. И хотя ни в транспортировке трупа за город к проруби, ни в дальнейшем шантаже его матери Свиндлер уже не принимал участие, ему дали всего на год меньше.
Месяца за два до этого я перестал с ним общаться, оскорбившись на то, что он попросил ключ от моей комнаты, я думал – Дину или ещё кого приголубить, а он привёл какого-то художника и отпиздил его за то, что тот якобы приголубил жену Свиндлера. Я был принципиально возмущён аурой, напущенной им в моё жилище: ебаться в нём – всегда пожалуйста, но кого-то пиздить – мы не по этим делам. Да ещё по такому поводу!!!
Позже я узнал, что художник был каким-то продвинутым – мормоном что ли?
Другие мочат друг друга – и хоть бы хуй по деревне, а тут и не доказано, что убивал, просто вышло, что там оказался – и такая жёсткая карма, незнамение по полной программе, ещё и Невзоров.
Свиндлер всегда презирал группы нездорово популярные уже за сам факт их популярности – «Алису», например. А заодно вообще всё советское. Но когда при вступлении в рок-клуб в анкете нужно было указать любимую отечественную группу, он написал «Всё» – потому что к ним действительно проникся симпатией.
После дезинтеграции «Леса» Коровьев стал звукачом «Всё». Без Свиндлера этого бы не случилось или случилось бы, да не так.
К тому времени Коровьев обзавёлся в Питере Саидом, возившим из Бишкека по
Оттягиваться по-настоящему можно только в общаге, бедным ленинградцам сложнее. Какие бы ни были флэты, только в общаге можно в 5 утра слушать «Хуй забей» на пределе киловаттной мощности. «Выноси свои колоночки да береги перепоночки» – это про Лужа. И именно в общаге утро у многих обитателей наступает в три, а фонари зимой зажигаются не через два часа, а уже горят.
Родился на улице Ленина опять же Коровьев, и он и придумал рифму, что его из-за этого зарубает время от времени. И «Человек и кошка» – тоже Коровьев, когда уже так зазвукооперировался, что его выгнали из института и общаги и он стал снимать флэт. Кота звали Бодун. А вот «Цикорий» написан ещё до Коровьева и наглядно показывает, как у Феди исчерпались все темы и сколько новых впечатлений открыл ему Коровьев. Впрочем, авторам часто свойственно не указывать своих вдохновителей в “special thanks”.
Новыми стали не только тексты, но и вообще весь звук, а главное – настроение, вдруг начался всё нарастающий праздник: Гамбург, Тропилло, пластинка на виниле, интервью на радио «SNC», бухалова в общаге, герлы, немка из Гамбурга и, наконец, знаменитая Ира, принимавшая в Пауково самых гениальных андеграундщиков, простёрла своё внимание на юного аппетитного Федю, тут уже праздник стал разворачиваться в другую, неожиданную сторону.
- Про эту Иру я много слышала, - сказала Оля. – Ну и что она из себя представляет?
Как-то раз этой зимой я распечатал фотографии очередного своего лета, накупил конвертов и разослал иллюстрации всем получателям индеепендент «Гласа». И заодно вспомнил вдруг и про Иру и послал ей снимок, на котором я голый лежу на песке у ног сидящих голыми Инки с Галинкой, а кругом ночной мрак, снято вспышкой. Мол, так и поживаем. Снимок я сопроводил экспромтом:
мне ништяк везде и всюду
хоть, увы, и не всегда
мать родную позабуду
Ирку с Федькой никогда
раскумарит Пауково
здорово, хоть нездорово
Недели через две после этого звонит телефон, девичий голосок: «Это Фил? Мы тут приехали к одному приятелю, а его нет. А ты, помнишь, в Питере давал свой телефон…». Осенью на флэту у Лёлика я на всякий случай дал телефон одной шестнадцатилетней девочке. И вот она приехала с подружкой на год старше, и ни с того ни с сего у меня появляется стакан травы, которую они везли пропавшему приятелю, а потом, в порыве симпатии ко мне ещё и грибочками угостили, и вот тут я и вспомнил Иру.
Они, правда, ничего о ней никогда не слышали – тем более интересное знамение.
- Так что, она действительно колдунья? – скептически спрашивает Оля, материалистическая Дева.
- Ровно в той же степени, что и ты, если уж угодно применять такое слово, - умничаю я, подражая дону Хуану. – Только у неё гранаты другой системы.
- Ну, я во всяком случае не ведьма.
- Конечно, ты волшебница!
Оля захватила из Москвы английский разговорник, чтобы готовиться к Амстердаму – ни минуты не должно пропадать даром. У меня дома она набрала моих детских английских книжек, однако им с Мышей хватило и разговорника, а в дальнейшем путешествии вообще стало не до английского.
Я с энтузиазмом присоединился к их штудиям: неважно, что делать, главное вместе. Узнал много нового, сейчас уже снова забыл.
Не считая общеупотребимых, прочие известные мне английские слова я знаю по «Beatles», даже могу указать, из какой песни какое слово. Хотя и по урокам английской литературы пресловутой спецшколы тоже кое-что запомнилось, но меньше несравнимо.
Мой сосед в общаге керосинки венгр Карой подарил таки мне, обделённому больными Лениным, книжку с волшебными картинками, как азбуку Буратине. Когда я задержался в Казахстане, Джон Четвергов позаимствовал её у замещавшего меня Игора. Да ладно, я и так всё помню… может, лет в 120 вдруг подарят раритет, то-то радость в таком возрасте.
Ещё они репетировали. Мыша осваивал мандолину. В «Титанике» у одного Мыши нет музыкального образования, музыкантом он стал, обучаясь в МИФИ.
Оля сочиняла новую песню. По некоторым фразам я понял, что про меня. «Удолбанный ковбой» – вот как она меня окрестила: я уже успел похвастаться, что являюсь прототипом песни про Настоящего Индейца. И что-то там рассуждал, как в «Гнезде кукушки» обыграна традиционная американская тема индейца и ковбоя – Макмёрфи и Вождя Швабры.
Про себя в этой песне она пела: «ведь я такая цаца – рыдает Ланселот». При чём тут Ланселот, я так и не понял, наверно для рифмы, я ж сам сочиняю, знаю эти дела.
Почему-то она вообразила, что я собираюсь «продать её газетам» – приняла меня за журналиста, подкатывающего к ней ради репортажа? Конечно, она имела в виду «Глас», но при чём тут продай? Вообще-то хорошо бы…
Ещё мы читали.
Я пытался донести до Оли своё восхищение Лимоновым, я взял с собою недавно вышедший сборник рассказов (который читал в ожидании гражданской обороны). О Лимонове Оля слышала и читать его не желала. С большим трудом я уговорил её прочесть хоть парочку указанных мною шедевров – Оля сделала вид, что прочла, но мнения своего не изменила.
Зато она с упоением читала обнаруженную у меня в Марьино Медведеву, в группу которой ушёл из «Титаника» Сталкер, и плевалась на каждой странице. Тут я с ней не спорил. Позднее я читал роман Медведевой, который мне очень понравился, там героиня возвращается из Америки на родину в Питер, заводит роман с бандитом, а запомнилось мне, как она сосёт его другу в туалете совдеп пивнухи, и тряпичные её туфли при этом пропитываются жидкостью с пола. Но про Лимонова – только тем и интересно, что про Лимонова.
Со своей стороны Оля преподнесла мне «Золотую кобылу» какой-то Елены, забыл фамилию. Я уединился в камнях с пачкой сигарет и погрузился в изучение. Поначалу кривился, но когда дело дошло до секса, пришёл в такой восторг, что прибежал к Оле и символически швырнул Лимонова в океан. Будь я помоложе, я бы на самом деле выкинул его, сделал бы глупость, а потом жалел. Сейчас я просто сымитировал дискобола, а потом положил книжку на место.
Но потом, чем дальше я вникал в «Кобылицу», тем противней мне становилось. Наконец мне надоело, я прочёл финал и больше к этому произведению не возвращался.
Умка, когда я показал ей в Феодосии у Славика эту книжку, искренне изумилась: как, Оля такое читает? Оказалось, что Умка училась вместе с этой Еленой в Литинституте. Пролистав книжку, она сказала, что ничего другого и не ожидала.
Надуманные крайне неблагозвучные имена героев – Гедат, Альматра, Парадиз – блядь, это ж додуматься надо, Парадиз! Только Грину это удалось, да и то Ассоль – на мой вкус, звучит не очень: фасоль, персоль, мозоль. А ёбарей своих героиня так презирает, что называет их буквами алфавита, даже не удостаивает именованиями. Букв хватило. Стиль вычурный, с претензией на авангард или как там это называется, например: без запятой шесть (!) прилагательных, дальше существительное, ещё пять прилагательных, существительное, всё это по-прежнему без запятых, и вдруг – тире. А вообще на каждом шагу настолько избитые фразы, что совестно становится. Нет, местами есть и находки, но уж больно заметно, как гордится ими автор, как пестует их.
Главная проблема героини да и, похоже, автора – достижение женщиной оргазма: «почём фунт оргазменного лиха». Кто только и как не ебёт героиню, потом она сама превращается почему-то в мужчину и начинает всех ебать – и всё ей не то, всё больше презирает она мужчин да и женщин под конец. На букве алфавита «Я» героиня посылает на хуй не только мужчин, но и любовь как таковую, и вообще всё мироздание, и, удаляясь в иные вселенные, продолжает грозить непонятно кому неизвестно чем.
Пьяница любит весёлое опьянение, алкоголик боится похмелья и ненавидит его. Елена эта, хоть и бахвалится богатейшим сексуальным опытом (в послесловии так и сказано, что весь алфавит – реальные экспириенсы), так и не смогла разобраться со своим сексом и возненавидела его, а следом и мужчин, в которых ровным счётом ничего, кроме секса, она видеть не желает.
Лимонов тоже завершает «Эдичку» «идите вы все на хуй», но звучит это совсем иначе. Эдичка любит женщин и вообще людей и ругает их любя. Его ненависть – поза, а не позиция.
Лимонова после «Эдички» захотело множество женщин, способных любить. Елена же такая неудовлетворённая потому, что – ну кто захочет связываться с такой дурой? И ханжой к тому же, пишущей «п.зда» - слово это любит, а написать его ссыт.
Моя мама тоже ненавидит секс. «Ты послушай только, как звучит само слово, - говорит она, - как удар хлыста». В этом я согласен, ну так слово-то нерусское. У русских с этими словами вообще беда.
Она считает, что нужно терпеть эту грязь ради продолжения рода, отсюда и выражение «Дом терпимости». Терпимости цивилизованной части человечества не хватает, это точно.
В шесть лет я почувствовал отношение моей мамы к сексу и стал скрывать проявления своей сексуальности. Соседский Колька, поссорившись со мною, заложил своему отцу, как мы с Людкой и Иркой показывали друг другу попу. Отец-алкоголик обрадовался поводу лишний раз выпороть Кольку ремнём. Кольке и в голову не приходило, что меня моя интеллигентная мама не тронет. Она только расспрашивала меня: но почему именно попу, что в ней интересного? Это давно уже было у меня с девчонками любимой игрой, и я никогда не врал маме, но на сей раз стоял на своём, как партизан: ты что, не знаешь Кольку, он же всегда всё врёт.
Мама удивлялась, поскольку именно она учила меня нудизму, конечно, не зная этого слова – настаивала, чтобы мы с Людкой и прочими купались в Семиболотье голыми, и сама подавала нам пример. Она выросла на Волге и с детства полюбила так купаться. И удивительное дело – на берегу я не испытывал никакого возбуждения, всё было естественно. Но какую сладость испытывал я, когда просил Ирку с Людкой связать мне руки, а потом стащить с меня трусы. Самая первая самая сладкая истома. И ведь никто не учил, сам додумался.
В садик мы не ходили, а когда пошли в школу, нас мигом зомбанули. Ирка вскоре уехала куда-то с родителями, а с Людкой, моей молочной сестрой, мы лет, наверно, до тридцати даже не здоровались при встрече, стеснялись!
Отношение моей мамы к сексу я почувствовал, когда она уговорила контролёршу пропустить меня с нею на «Спартака» – мама преподавала историю и непременно хотела, чтобы я посмотрел этот фильм. Когда к Спартаку привели в камеру герлу и она разделась, я сразу спросил: «Мама, а зачем она разделась?» – «Не мешай, потом объясню», - отговорилась мама, но я потом не забыл, как она надеялась, а она так и не пожелала объяснять и так мялась, что я сразу всё понял, то есть почувствовал. Две серии фильма показывали почему-то отдельно, и на вторую она меня так и не сводила. Из чего я тоже сделал выводы.
С детства я безоговорочно верил маме. Опять же в шесть лет всё тот же Колька рассказал нам, как делают детей. Мы с моим другом детства Игорем восприняли информацию и стали экспериментировать (предателя Кольку уже не приглашали). Ничего не получалось: ни в Ирку, ни друг другу в попу, ни в добрую большую собаку Кнопу наши писи лезть не желали. Насчёт Кнопы мы прикололись, как будет смешно, если её щенки будут говорить по-человечески, и долго хохотали, представляя разные ситуации. Хуи у нас стояли в полный рост, но про необходимость смазки нам никто не объяснил.
И я решил, что Колька врёт, как всегда, а правду говорит мама: муж с женой идут в аптеку и покупают особые таблетки, жена их глотает, и ребёнок вылезает из пупка. «А если я съем такую таблетку? – спрашивал я у мамы, - У меня ведь тоже есть пупок. И соски есть».
И только летом после второго класса я шёл с Семиболотья с ведром воды для живущего у меня карасика и вдруг увидел в кустах поднимающийся и опускающийся мужской зад. Я сразу бросил ведёрко и побежал за Игорем. С тех пор это стало нашей любимой игрой, и я просил маму шить мне зелёные маскирующие рубашки, потому что мы играем в индейцев. Вокруг Семиболотья в те времена было множество пикникующего народа, мы с Игорем только тем и занимались, что собирали бутылки, но натыкаясь на парочку, сразу начинали слежку. Часто бывало, что парень с девушкой только целовались, а мы в кустах негодовали, когда же он раздвинет ей ноги. Один приятель Игоря позже усовершенствовал нашу игру: он выскакивал из кустов, хватал джинсы или транзистор и убегал, по бегу у него был первый взрослый разряд. Мой папа и не подозревал, что за транзистор он берёт обычно с собою на рыбалку.
С тех пор я перестал верить маме. И вообще стал понимать наоборот все её суждения. Она ведь говорит, что это плохо, а я-то знаю, что это самый ни с чем не сравнимый кайф.
Хорошо хоть моя мама непоследовательна. Когда я закончил школу, она стала держать на первом этаже квартиранток, студенток университета, каждый год новых. Моей тёте Наде она объясняла: «Ребёнку нужны горничные, во всех хороших домах всегда так было. А то будет шляться ночами неизвестно где». Вот это мама молодец!
Сама она перед войной, по её словам, сбежала от своей любви из Питера аж на Дальний Восток (сильна! дык она и с парашютом прыгала, и на лошади скакала). Якобы её любимый был евреем, а она не хотела рожать полукровок. В поезде в долгой дороге она познакомилась с галантным морским офицером и почти сразу забеременела. Брак они зарегистрировали только через три или четыре месяца. «Он обещал жениться», - объясняла она мне, когда я всё это вычислил. Первая зима войны. У папы жена (кстати, еврейка) с ребёнком, живущие с ним в гарнизоне. Он политрук, облико морале. Моя одинокая беременная мама с зарплатой учительницы.
Ещё одна непоследовательность моей чудной мамы: она говорит про Севку, что первая жена изменяла ему потому, что он слаб как мужчина, весь в папу.
Так что, ей не хватало в папе пресловутого темперамента? Задрочила его, небось, своими заморочками насчёт грязи и прочего, мол, он мужик, а она столбовая дворянка. Он уж просто боялся её. У неё ведь чуть что – дворянская истерика, видал я и сам годами искореняю в себе эту заложенную ей манеру. Когда они построили дом, она сразу отгородилось от него мною – он спал на первом этаже, а мы с нею на втором. Но я-то знаю, как наведывался он к соседке-караимке тёте Броне, она казалась мне настоящей колдуньей, так странно пахло у неё в доме, увешанном пучками разных трав, и такими необычными самодельными сладостями она меня угощала. А мама говорит: клевета. А что ей остаётся?
Мама Дева. Может, поэтому мне так везёт на плохо совместимые с Воздухом Земные знаки?
А вообще-то Оля, вручая мне «Кобылу» для прочтения, имела в виду совсем не литературу. В конце концов, она сама сочиняет стихи и занималась когда-то самиздатом и не могла не видеть, чего стоит эта писанина. Просто речь шла совсем о другом, а я дурак и не врубился. Стесняясь прямо говорить со мной о сексе, она вместо этого дала мне образчик эротической литературы – ведь из Москвы везла всё же. Мол, несмотря на имидж недотроги и холодного бестелесного ангела, вот каким огнём она сжигаема изнутри[9]. Образчик неудачный, но уж какой под руку подвернулся.
Конечно, я дурак. И справка есть.
Чем ещё мы там занимались? Купались, загорали, готовили пожрать. Я демонстрировал Оле, как ловко умею прыгать со скал и вообще какой я красавчик. Мыша оказался йогом и ушуистом – у моря многих на такое пробивает.
Съездили в Оленевку за помидорами и вином, Элеонора осталась за сторожа. На машине – не то что раньше пешком, когда это было целой экспедицией. На обратном пути остановились на обочине и набрали в лесополосе сухих палок в багажник. Видели змею. Потом я устроил ралли-сафари по пересечённой местности под песню «Криденс» “I’ve heard it through the grapevine” из моего сборника. Я рассказал Оле, как под эту песню впервые в жизни поймал рокенрольный кайф – пришёл из школы, было солнечно и радостно, и вдруг эта песня потащила меня куда-то, и я не знал, что это со мною такое делается.
Пользуясь безнаказанностью, я специально хапнул винчика, чтоб прокатиться пьяным, и пёрся в полный рост – Фогерти, Трахкранкурт, Оля, руль и педали, столько отчаянно любимого обрушилось на меня.
Оля опять жалела, что связалась с таким придурком. Славик Индеец был ещё и байкером.
Во вторую и третью ночи я спал со стороны Мишелек – выяснилось, что Мыша не стирает свою майку. Тут такая свежесть, бриз – и тут такие подмышки.
На третье утро я решил, что пора двигаться дальше. Поскольку здесь дальше будет то же самое. А у Оли Крым запланирован до 20-го июля, а уже 10-е.
Я осторожно и дипломатично обсудил это с Олей, потом – отдельно с Мишелькой. Ни Оля, ни Элеонора перемещаться никуда не хотели. То есть и хотели бы, но будет ли в других местах так же хорошо, как здесь?
А чего хорошего? Море холодное, ветер зябкий, камни жёсткие. Побывать здесь было нужно, но вообще-то тут бывает порой гораздо лучше, а сейчас нам не повезло.
Сдвинуться с места не так-то просто. Валяешься себе, загораешь, ни о чём не думаешь – и вдруг нужно сворачивать одеяла, укладывать рюкзаки, чистить закопченный котелок, мыть посуду, ничего не забыть. Потом втаскивать рюкзаки на скалу, располагаться в машине.
Легко сняться с места одному или в компании двух послушных девочек. Но когда компания состоит сплошь из равных в правах индивидуальностей…
И ещё хоть немножко позагорать – как будто последний раз в жизни. И окунуться перед дорогой. Сваливать я решил утром, а выдвинулись только во второй половине дня.
У нас с Мишельками был повод торопиться – успеть до закрытия магазинов и купить нормального вина по госцене. Оля этого не знала, но, видно, проинтуичила.
Когда мы проезжали Донузлав, она почему-то захотела непременно в нём искупаться – может, в озере вода потеплее? Больше никому купаться в грязном озере не хотелось. Но я ведь исполнял все желания Оли (за счёт Мишельки).
Сперва спустились к озеру влево от трассы по непроезжаемой дороге. Не понравилось. Наверх я взбирался один, остальных отправил пешком. Спустились направо – вроде поуютнее. Оля удалилась опять на левую сторону – переодеться, это уже после всего нудизма. Явилась нашим взорам в чёрном закрытом купальнике. Я не люблю закрытые купальники, но сделал Оле комплимент: о-о-о! как тебе идёт… Это было правдой, я никогда не льщу неискренне – только в том случае, если мне действительно нравится, я вспоминаю, что почему бы не сделать человеку приятное, и только это и называю комплиментом. Фигура у Оли далека от классических канонов, но на мой вкус, лучше быть слишком худой, чем слишком толстой. То есть это личное дело каждой, я только хочу сказать, что если бы Оля оказалась толстухой, я бы уважал её голос и ценил дружбу с нею, но полюбить её я бы не смог.
Может, Оля и хотела просто продемонстрировать купальник? По крайней мере, купаться она так и не решилась – глинистое дно, и неизвестно, сколько ещё придётся идти по нему до глубины. Остальным не больно-то хотелось купаться с самого начала.
После Евпатории Оля захотела купить черешни – она ведь уже отходит. Останавливались много раз, но ей всё что-то не нравилось. Так и не купили.
В Симфике Оля с Мышей пошли на базарчик возле вокзала, и так долго их не было! А привокзальные магазины, Мишелька проверил, уже закрылись, один работает до восьми, другой вообще до семи.
Но мы своего всё же добились. Возле почтамта, когда Оля с Мышей пошли опять звонить, я объяснил Мишельке, как найти магазин, который уж точно до девяти – в народе его так и называют «девяткой», впрочем, кажется, это его номер. У магазинов бывают номера? До перестройки вроде были.
Оля, вернувшись, с подозрением спросила: а где Мишелька? Увидев его радостного с портвейном, вздохнула: всё ясно…
Но ничего, на этот раз у меня дома выпили вполне мирно и душевно. Братанов не было. Я ставил Оле запись Риши у Славика, а также Парфёна, а также записанную мною ещё в Питере Тэрри. Про Тэрри Оля что-то слышала. Гениальная певица, говорил я ей, но, к сожалению, далеко не худенькая.
Оля даже захотела подарить мне какую-нибудь фенечку, у неё был целый мешок их. А я почему-то отказался, играл непонятно во что, спьяну.
6. Мама, нас лечат не те врачи
Проснувшись опять первым, я вспомнил про фенечки и нацепил на себя самую лучшую – очень индейское ожерелье, на кожаном шнурке красные, зелёные и жёлтые шарики и бляшечки, среди них симметрично торчат лакированные сливовые косточки, а внизу подвешен синий деревянный расписной слоник. На последующих тусовках оно мне очень пригодилось при новых знакомствах.
Оля, когда увидела, сказала, что именно его и собиралась мне подарить и интересно, что я сам его и выбрал.
Выбирать там, надо сказать, было не из чего: остальные фенечки, что нашейные, что наручные были однозначно женскими. Да это и понятно, ей ведь их надарили. Наоборот знамение, что в её мешок затесалось такое ожерелье воина – возможно, кто-то подарил под впечатлением её рэгги-периода. Такова специфика её работы, что ей то и дело дарят разные фенечки, и столько уже их набралось, что она решила всем встречным-поперечным этим летом раздать всё надаренное за год, дабы поддержать круговорот фенечек в тусовке.
Кстати, на Трахкранкурте Оля сожгла в костре целый пук волос, привезённый из Москвы в целлофановом пакете – целый год она собирала их из расчёсок, вот не помню только, из своих или из Мышиных тоже? Вот настолько всерьёз она реагирует на идею, что через твои волосы теоретически возможно оказывать на тебя влияние, насылать порчу и прочее. Мало ли кому мой волос может попасться, если я выкину его в мусоропровод!
Разумеется, бесспорно, что с такими вещами надо быть поосторожней, но чтоб настолько – целый год методично собирать, а потом везти с собой за полторы тыщи километров… «Я окружаю себя забором». По утрам чистить зубы, после дабла мыть руки, ебаться только в презервативе, спать в носках. Это, конечно, правильно, но… приятель Парфёна Антихрист обычно приговаривает: «тока без фанатизма».
А как же насчёт колдовства по фотографии? На кассетах и компактах ведь есть фотографии? Кстати, интересно, каково же девушкам из порножурналов, на изображения которых дрочат тысячи, сотни тысяч, миллионы? Впрочем, оттягиваться под запись Олиного голоса – разве это не то же самое? Там такие вихри влияний закручиваются – куда там какой-то волосне.
Мне показалось, что у Оли именно в этот день появился ко мне интерес. То есть ехала она в путешествие в надежде: вдруг это окажется интересным? И наконец мне удалось её заинтересовать. Как-то вдруг переменилось её отношение ко мне, другими глазами она стала смотреть, по-другому говорить. Хотя, может, мне и показалось.
То, что она пересела на переднее сиденье, можно объяснить и иначе: одно дело – развалиться позади, как хочется, с гитарой, и другое – тесниться с Мишельками, да ещё и дверь сзади у меня открывалась только правая, как выходить, так запара.
Точно так же мне казалось, что Мыша проявляет недовольство из-за изменения наших с Олей отношений, а на самом деле ему просто не понравилось, что его пересадили назад.
Однако он и в Феодосии почему-то продолжал кислячить, хотя всё это могло объясняться акклиматизацией, магнитными бурями, переменой давления, чем угодно.
Отношения Оли и Мыши продолжали оставаться для меня загадкой. С одной стороны понятно: он тоскует по бывшей жене, она ещё не оправилась от Индейца. Хуй его знает, бывают и такие люди, хотя про себя я никак не могу себе такого представить – что ж, после Ирен ни с кем уж больше не любиться? Наоборот, с годами, набираясь опыта, я жалею о тех эпизодах, когда надо было прихватить кого-то, а я не понял, чего от меня на самом деле требовалось. Ну ладно, допустим, кому-то нравится быть подвижником – в конце концов, мало ли какие подвиги я и сам не совершаю порой, только в чем-то другом. Да и спят в разных комнатах. Но хоть и в разных – неужели так и ни разу? Слабость там, чё-нибудь такое? Не всё же время посты. Ладно, пускай – безупречные воздерженцы. Мне странно, но допустим – бывает и такое.
И всё равно – многое в поведении Мыши в последующие дни очень напоминало мне ревность. Ведь ревность, возможно – производное не секса, а любви, а равно и дружбы. Я много раз видел, как ревнуют меня друг к другу мои друзья, когда я знакомлю их друг с другом. Некоторые из моих друзей способны подружиться между собою, но у некоторых, и как раз у самых как бы близких, возникает иррациональное и непреодолимое отталкивание.
Что значит – самых близких? Ведь если вспомнить, бывает действительно сближение, а бывает просто приятельство. Так может, только второе – дружба, а первое – уже любовь?
А может, и нет на самом деле никакой дружбы? А только разновидности любви? Различные химические соединения, включающие её атомы. Травы с различным содержанием каннабиола, в том числе и беспонтовки.
Подразумевается иногда, что любовь – нечто непременно связанное с половым, а то же самое при отсутствии полового влечения – это дружба. А остальное – случайные связи.
Можно ввести три оси – дружба, любовь и секс – и рассадить всех своих знакомых в восемь образовавшихся секторов, каждого на свои координаты.
А можно подойти иначе: мол, любовь – это нечто иррациональное, не поддающееся никакому анализу, тайна веков и закон жизни, и она просто или есть, или её нет, а всё остальное – материальные взаимоотношения, интерес ради выгоды, и секс – один из требующих удовлетворения интересов.
По-разному бывает. И Олди непременно добавил бы, что как захочешь – так и будет.
В общем, мы с Олей весь тот день как-то необычайно душевно общались, а Мыша, казавшийся добродушным и покладистым, а в отношении Оли даже смиренным – Мыша явно обламывался.
С утра я показывал Оле свой дом. В прошлый приезд было не до того, да ещё с одной ногой.
Я рассказал Оле, как мама крутила прижимистого папу на ремонт и перестройку второго этажа, как она заменяла в своей школе всех больных учителей, а всё свободное время постоянно что-то кому-то шила, а потом так радовалась, покупая в комиссионке эту вот парочку простеньких шкафов для книг или вот эту пару обшарпанных кресел. В Москве на помойке можно найти гораздо более роскошные предметы мебели и много новее.
У большинства моих одноклассников дома стояли стенки, шифоньеры и прочее, лакированные, блестящие, мне коснуться было страшно с непривычки.
Зато у меня дома было просторно и появлялось особое чувство свободы, ко мне приходить можно было запросто, и была куча мест для уединения: помимо двух этажей с комнатами, веранды и чулана под лестницей у нас была ещё и времянка – так назывался домик, в котором мы жили, пока пахан с братанами строили дом. В ней была кухня, которой пользовались в летнее время, и комната, запертая на замок, поскольку там всегда стояло множество 10-ти, 15-ти и 20-тилитровых бутылей с вином папиного приготовления. Ещё там хранились инструменты, стройматериалы и весь хлам, который вдруг когда-то мог пригодиться, да так никому и не пригодился. Я обычно проникал в эту комнату через окно за арбузами – запасливый батя арбузы покупал машинами, крупы мешками, и довольно часто заставлял всю семью питаться какими-то, наверно, очень дешёвыми потрошками, за что Наташка подучила меня называть его «Потрошок» (теперь так называют меня Инка с Галкой).
Воду в летнюю кухню носили из огорода, в который вёл летний водопровод, на зиму отключаемый. По всему огороду стояли корыта с водой, потому что помидоры можно было поливать только водой, нагретой за день. Пахан чуть ли не каждую ночь ловил рыбу, а утром выпускал улов в корыто, иногда там шевелились и симпатичные раки, и их мне было особенно жалко.
Ещё у времянки был чердак. Будь мы с Олей помладше, я бы обязательно показал ей чердак. Когда я бывал там наедине с Людкой или с Иркой, я признавался в любви и целовался, а когда мы были все вместе, почему-то было не до лирики, я просто предлагал поиграть в больничку.
Да нет, и просто сидеть там – настолько было интересно! А сейчас? Даже, допустим, в порядке бреда и уговоришь её залезть – и что дальше? Напряжённость, беспокойные мысли о том, что будет или что было, но никакого здесь и сейчас. Вот, кстати, для этого-то и очень хорошо косячок как предлог – например, от мамы спрятаться, а то вдруг учует. Уже приключение, уже интересно. Но Оля ж не пыхает.
Одна рафинированная девочка из хорошей семьи, сказала, что мой дом напомнил ей подмосковные интеллигентские дачи. Что мебель старая – так туда такую и свозят, в остальном же, сам дух… Да, она верно уловила дух, который вдохнула моя мама. Простые советские обои, а на них в рамочках фотографии ближних и рисунки, и даже несколько картин маслом, маминого дяди и её брата, а среди рисунков есть и мой, и Наташкин, и Мильёшкин. Вазочки, кувшинчики, засохшие цветочки. Если бы я не смотрел глазами Оли, я бы и не заметил, как, оказывается, наивно, бесхитростно и трогательно моя мама пыталась украсить своё бедное, но гордое жилище.
И всюду открытки и плакатики Ленина, прям как у меня Леннона впоследствии, и даже белый фарфоровый бюстик. Кстати, крутая была бы фишка – иметь такой же вот бюстик Леннона, белый и фарфоровый, а? Оля согласна.
- Или Боба Марли, - говорю я, - или твой.
Правда, после смерти отца в доме поселился полтергейст. То пачка сигарет пропадает, которую я вот только что положил, а потом находится на лестнице, по которой только что прошёл Севка. То уезжаю я утром в Гурзуф, возвращаюсь вечером, а дверь моей комнаты взломана и пропал новенький плеер, остальное всё на месте. То возвращаемся из Феодосии – нет денег, которые оставались под клеёнкой, покрывающей стол, совершенно незаметные. То исчезает магнитофон из ящика стола, а через несколько дней появляется в том же ящике.
Севка говорит: бичуганов бродит много, да и в гостях у тебя неизвестно кто. У него подрастают два сына. А сам он, когда у него белочка, выходит ночью в огород и начинает орать на всё Марьино: «Когда ты оставишь меня в покое? Зачем ты вообще родился?» и т.д., подолгу кричит, я даже к Славке спать ухожу. Первые месяцы после зачатия у него были беспокойными.
Разумеется, обязательная программа – фотографии. Вообще-то кое-кого такие вещи, бывает, парят, особенно нариков на кумаре, но Оля отнеслась к просмотру с энтузиазмом. Вот мой папа в 24-м, а вот мама в 42-м, а вот я в пионерском галстуке.
А вот какие у меня книжки, а вот – бобины. А вот восемь томиков, вырезанных из тетрадки, роман про моих плюшевых медведей. Нормальный мальчик был когда-то, хороший.
Пока мы общались, заходила наша соседка Вера, под старость оглохшая, искала маму. В связи с чем до меня вдруг дошло: воспитывали меня добрая тётя Надя и строгая мама Люба, а выкормила своим молоком – эта вот самая Вера, Людкина мама. Интересно, да?
Мне казалось, что я пишу дипломную работу – свожу воедино и показываю всё, чему успел научиться. Предшествующая жизнь – годы тренировок через тернии, и вот сейчас – показательное выступление.
Я уже показывал эти фотографии, эти книжки и бобины другим девушкам. И кого только я не заманивал в Крым. И даже права, вовремя когда-то полученные, пригодились. И язык английский. И даже диплом института хоть раз в жизни хоть в чём-то помог – без него я не смог бы настолько достоверно изобразить Севе, будто тоже что-то понимаю в звукооператорстве.
Между прочим, на протяжении всего путешествия я представлялся мусорам звукооператором. Тормозят – я им сразу: да вот мы музыканты, группа «Титаник». Они: а на чём ты играешь? Я скромно так: да не, я просто по звуку, оператор я, ну и шофёр заодно. Типа – я не звезда, это они звёзды, а я так, при них, шофер ихний ну и техник по ходу. Такой же, как вы, простой работяга.
Как и прочее, это тоже было давно отработано: бывают места – в поезде, на вокзале, не говоря уж о мусарне – где могут с намёком на возможность агрессии спросить: а почему у тебя такие длинные волосы? Последнее время я отмазываюсь: звукооператор. А раньше просто говорил, что музыкант, а когда спрашивали, на чём играю, говорил – на перкуссии. Ещё и не всякий знает такое слово – по крайней мере из тех, кто считает нормальным задавать такие дурацкие вопросы. Как маленькие – а почему у дяди такие длинные волосы? Как будто никогда не слышали про Самсона (про natty dread я уж не говорю). Да у меня у самого могли бы найтись такие вопросы к окружающим, например: почему ты слышишь «Аквариум» и ничего не можешь там услышать? Приходит ко мне в гости в общаге какой-нибудь дурак, которому нехуй делать, или когда я дома в Марьино, пьяный Севка вопрётся пообщаться – и вот, какую музыку я ни ставлю, он всё тараторит, несёт полную околесицу, и что бы ты ему ни ставил, его это никак не затрагивает. Музыку он и сам может послушать, а сейчас пришёл с конкретным намерением вампирить именно тебя.
Собрались и выехали только в середине дня.
Ехать дальше я решил в Феодосию, чтоб взять у Славика ласты, маску и трубку, а также карту Крыма. Конечно, всё это можно было бы и купить, но почему бы не потратить те же деньги, кстати, опять Мишелькины, на бензин до Феодосии, нам ведь абсолютно всё равно, куда ехать.
Ласты были мне срочно необходимы, чтобы начинать добывать мидий и рапанов. Это у меня в Крыму обязательная программа, без этого никак.
По дороге в Феодосию я поставил Оле свой сборник БГ и Чижа с другой стороны.
Оказалось, что БГ Оля раньше не уважала. А поэтому толком и не слушала, как это всегда и бывает в таких случаях. И сейчас на моих глазах открывала его для себя, а значит и я кайфовал от него опять по-новому. В итоге она признала, что Боря всё-таки ништяк, никуда не денешься, что бы там про него ни гнали.
Но Чижа Оля не уважала настолько, что и слышать не хотела. Как и в случае с БГ, она выражала не своё мнение, но общественное – моду своей тусовки. БГ, по мнению этой тусовки, опопсел и зажрался, и уже не чужд общения с жирными пидарасами мира сего. Но всё же какую-то независимость умудряется сохранять. Чиж же продался им сразу с потрохами, а вина его на окончательном судилище несравненно тягче – он наёбывает малых сих, поскольку если «На-на» делают чистую попсню и не претендуют ни на что большее, а Пугачиха – вообще заслуженная деятельница, только в своём жанре, то Чиж – прикидывается хипаком, спекулирует на священной теме и вообще, по большому счёту, профанирует то, что должно быть тайным и неприкосновенным. Кстати, примерно то же самое Питер Тош говорил про Боба Марли, ну и что? Если бы не Марли, кто бы в Советском Союзе знал про Питера Тоша?
По малому же счёту – он просто провинциальный пошляк. А пошляк-то почему, спрашиваю. А ты послушай «Вечную молодость»! Я слушаю... н-да… нет, если под таким углом смотреть… хуй его знает, да я даже и не прислушивался раньше к словам, это вообще-то не самая моя любимая у него песня. А «Фантом»? Это же подзаборщина, блатняк! Тут я спорить не стану – не стану такому попаненту признаваться, что я на самом деле люблю блатняк, и рокенрол я полюбил уже после того, как меня научили любить Высоцкий, дворовые песни и даже некоторые советские. Как много общего у уголовников начала века и хипаков его конца, так же очевидно связана и их музыка. Я ж не врубаюсь в стаккато и токкаты, мне похуй научно-обоснованные танин, кофеин, каннабиол - мне главное, есть кайф или нет. А если ты не по этим делам – как мне тогда тебе объяснить?
А «Такие дела»? – спрошу я. Вроде и слова ничего, и это… чё там ещё? Ну это ещё ничего песня, согласится попанент.
Я запал на Чижа на этой песне, и в этом гораздо большая заслуга Парфёна, нежели Чижа. В первое лето нашего знакомства они с Кокой пели её у костра дуэтом в унисон.
Мы пили, наверно, не первый день, и я был в расслабленном, склонном к шизофрении состоянии, и мне в этой песне почудился намёк на меня. Разумеется, это ощущение было маниакальным – ничего подобного они не имели в виду, просто пели всё подряд, что умели, да и вообще они тогда меня совсем не знали, мы не были достаточно близки, чтоб им там на что-то намекать. Просто я загрустил по пьянке и был в своих галюнах. Да и неважно, хотели они или нет – даже ещё большее знамение в том, что они сами не ведали, что означала для меня эта песня.
Мне почудилось вот что: двое молодых волосатых встречают на пляже постаревшего и поют ему, мол, что ж ты, был с такой герлой, которая так пела, а теперь явился сюда же, обременённый чадом и в компании толстой и сварливой жены. Этим ты сам подписываешь себе приговор, что пора на свалку – раз не бросился вслед за той девчонкой, куда бы она ни поехала. Она-то, может, и Янка, да вот ты, брат, всяк далеко не Летов. Хотя и жил когда-то по подвалам (а я уже успел им об этом и многом другом поведать), а теперь способен только за чашечкой портвейна рассказывать об этом молодому поколению.
А решил я, что этой песней намекают на меня вот почему: как раз в этот вечер Парфён задавал мне традиционный вопрос, кого я слушаю, а я сумничал, что все удивляются, когда я говорю, что больше всего люблю БГ и ГО, поскольку те, кто любят БГ, на дух не выносят ГО – чернуха, и наоборот, поклонники ГО презирают слюнявого БГ. И после этого они мне поют: «Он держит дома 5 альбомов ГО и 6 альбомов БГ» – не один ты такой оригинал, типаж даже такой есть. «И вроде бы он не предатель»…
Я заинтересовался, и Парфён разрекламировал мне Чижа.
- Знаешь, была такая группа «ГПД»?
- Дык! Шестой Питерский фест, 88-й год! Пацанчик там такой охуенный.
- Чернецкий.
- Да, точно – просто ништяк, охуенный был чувак.
- Ну. А Чиж – его друг, только когда они вместе играли, это уже были «Разные люди».
Ясное дело, раз друг Чернецкого – значит, тоже заебись. И оказывается, он теперь у украинской молодёжи популярен – свой, которым можно гордиться, как «ВВ» и «Братами Гадюкиными».
Всю осень и зиму я во всех киосках с кассетами спрашивал Чижа и злился на их отсталость. Точно так же я всегда обламывался среди книжных развалов «Олимпийского» – Тополем, Марининой и прочими, кто сумел развести малых сих, всё завалено, а Лимонова у них – ничего! Мне сразу начинает чудиться очередной заговор сиамских мудрецов, потаённых колдунов, самой тайной и древней мафии, питающейся мозгами живых младенцев. Тиражируется опиум для народа и распинаются говорящие об ином пути, а потом и их превращают в опиум, слегка подправив.
Наконец в Питере я нашёл пиратскую кассету, и стали мы слушать её и балдеть. В марте Чиж выступал в Горбушке, я заранее купил билеты, Филю тоже взяли, покупали ему колу, а себе пиво, и свой пузырь в зал пронесли, Галка отплясывала в обнимку с юными панками, я купил наконец студийные кассеты (а также винилы “Doors” и «Хуй забей»), и мы оттягивались под них ещё месяц, пока их не сменил «Титаник».
Мне тогда Чиж казался чем-то новым – наконец хипак спел о хипаках и для хипаков, их темы, их жаргон, их проблемы. Я ведь тогда не слышал ни Умку, ни даже Олю. И я могу понять сторонников последних – действительно есть разница между узким кругом посвящённых в «Титаник» и «Броненосец в потёмках» и разномастным сбродом, фанатеющем на Чиже.
Я понимаю этих рафинированных хипанов и знаю, что как и они, я отличаюсь от этого сброда. Но почему-то я ещё знаю, что это так, но в чём-то лишь, а кое в чём я – такой же, как этот сброд, мне так же нравится такая же вульгарщина, я так же прусь от примитивных шлягеров. БГ-то и ГО на самом деле очень даже сопоставимы – да это очевидно любому хоть дэцел эстету, - но мне нравится (как-то, конечно, по-другому – ну просто мне смешно, забавно) и «Сектор газа», и даже «Красная плесень».
Вам не приходило в голову, что Майку гопники в его одноимённой песне на самом деле симпатичны, ему порой хотелось бы быть вместе с ними?
С Олей я не стал спорить, просто попросил: ну давай послушаем, ну что тебе, трудно что ли? И дальше то я соглашался: ну да, эта песня, может, и не очень, то она уступала: ну эта ещё ничего.
- Но последняя, - повторял я, не может тебе не понравиться.
И точно! Она уже говорила мне о своей задумке – сделать концерт из чужих песен, например, она уже пела мне одну песню Махно, узнав, что я видел его однажды в Пауково, а также пару песен Олди, возможно – и «Жёлтый дом» Парфёна. Эту песню Чижа она тоже сразу захотела спеть:
«мама, я очень болен
мама, нас лечат не те врачи»
Очень красивая песня. А потом я ещё и сказал, что это Чиж сам тоже поёт чужую песню, харьковской группы «Ку-ку», и Оля совсем уже удовлетворённо отметила:
- Вот видишь, всего одна хорошая песня – и та не его!
Когда мы расставались, я подарил ей эту кассету. Но петь эту песню она так и не стала.
Славика дома не оказалось.
Я уже рассказал Оле, что Славик после института так и работает типа инженером. Когда мы заканчивали школу, такая жизненная перспектива вполне катила – уж всяк лучше за одни и те же деньги валять дурака в каком-нибудь учреждении, чем разгружать вагоны. При совдепе все получали примерно одинаково, независимо от степени полезности производимой деятельности, и мне нравится эта идея – занимайся тем, чем хочешь, а не тем, к чему принуждают меркантильные интересы. Сдав соответствующие экзамены, любой мог считаться кем угодно – инженером, режиссёром, поэтом, врачом, главное верить, а если ещё и другие верят… Например, ещё в керосинке я взял с собой на практику гитару, поскольку точно знал, что никто в нашей группе играть не умеет – и вполне проканал за певца и гитариста, всем ведь всё равно, когда хором и по пьяни, и воспоминания о таких распевках остаются самые радужные, а для поддержания реноме начинающего гитариста я иногда, отморозившись ото всех, ковырял что-нибудь на одной струне, и опять же достаточно было самой приблизительной мелодии, напоминающей “Smoke on the water”, чтобы привести их в восторг. Не приходило ли вам в голову, что это и есть то, что необходимо, а можно прикинуть, что и достаточно, остальное от гордыни, соревнование, кто круче изъебнётся. Если бы не КГБ, остальное в социализме действительно было ништяк, как в «Незнайке в солнечном городе», пидарасы были, но хоть не засвечивались, глаза не мозолили. Даже если хотя бы официальное мнение их осуждало – и то достижение. Да и в наличии КГБ была своя особая романтика, ну а ГУЛАГ как был, так и остался, ну так это тоже прикол особого рода, как же без него играть?
А то, что заявляют прагматичные материалисты – мол, ничего не производилось, потому что не было стимулов, - так вон куда уже привела производительность капиталистов, и на хуй бы она нужна такая производительность. Гормонные окорочка, химия во всём, радиация – ну что перечислять, все ж знают. А людям на самом деле главное – играть. Изображать, что они то-то и то-то, космонавт или артист («Я дизайнер» – «Да уж ясно, что не Иванов»… вам никогда не приходилось беседовать с дизайнером?), а уж хорошо ли получится – по-любому это уж как Джа даст. А пищи, если б не война за средства вести войну, хватило бы и без химии.
И Славик, и мой брат Севка играют в то, что они инженеры. И у того, и у другого на полках куча справочников и научной литературы. Раз в пару лет они придумывают предлог снять с полки какой-нибудь учебник и страшно этому радуются – пригодилось!
В детстве на чердаке над времянкой я точно так же играл в радиотехника – в корпус от старой радиолы я напихал радиодеталей, проводов и других ярких загадочных штучек: обточенных морем осколков стекла, использованных ампул, шестерёнок и т.п. Крепилось всё это на пластилине и называлось – рация. Были у меня и наушники, старинные, сороковых, наверно, годов, чёрные круглые корпуса крепились на скользящем в них тонком железном ободе.
Всё остальное я воображал, и кайфовал несравненно круче любого реального радиста. И неизвестно, что более ценно – тот мой кайф или сомнительная польза, приносимая кому-то там радистами.
У Севки, очевидно, воображение сильнее, чем у Славика. Ему достаточно иметь кульман и класть его иногда зачем-то на стол в своей комнате – наверно потому, что потом он возле кульмана попивает водочку, а Славик сидит на трезвяках. Детали, инструменты и пара тестеров у Севы просто свалены в серванте и тумбочках, для его воображения ему достаточно. У Славика же все инструменты аккуратно развешаны (что сразу выдаёт шизофреника), на каждой коробочке написано, что в ней лежит, как и на каждом свёртке на антресолях, свёртки запылились, а надписи почти выцвели, над «рабочим» (впрочем, раз в год он действительно что-нибудь ремонтирует) столом на стене закреплены пара сотен спичечных коробков, и на каждом написано, какое в нём сопротивление или конденсатор. И куда уж Севке с его тестерами до осциллографа и двух (!) частотомеров. Я спросил у Славика: «Ну два-то тебе на хуя?» – «Один я ещё из Питера привёз, из института умыкнул, а другой, так уж вышло, что здесь на работе удалось спиздить, не пропадать же». Действительно, чё б не пиздануть, если есть возможность? Зато теперь, как взрослый – над рабочим столом сложные приборы.
К сожалению, в наше время инженерам задерживают и без того символическую зарплату, и Славик, и Севка получают в счёт неё натуральные продукты, например, у Славика в то лето стояли пара мешков макаронных изделий, и надо отдать должное фантазии, с какой он их готовил. А Севка зимой выкапывал клубни топинамбура.
Поэтому летом Славик берёт за свой счёт и работает киномехаником за наличные. Зимой в Феодосии кино крутить некому – хоть местным абсолютно точно так же, как и приезжим, совершенно нехуй делать, отдыхающими себя они почему-то не ощущают.
У меня тоже валяется где-то корочка киномеханика. На практике в кинотеатре в первый же день я так заправил плёнку, что при включении проектора она заполыхала. К несчастью, это была ещё и свежая копия, и больше меня к аппаратам не подпускали, я просто приходил отмечаться, если был новый фильм, смотрел его, а потом и вовсе ходить стало некогда. Корочку всё равно дали.
Я рассказал Оле, как прошлым летом мы тоже не застали Славика дома, но тогда было часов двенадцать ночи, и приехали мы своим ходом, так что ничего другого не оставалось, как влезть на козырёк над подъездом, а оттуда по трубе пробираться до форточки на втором этаже. А в двери у него оказался такой необычайный замок, который открывается только ключом и исключительно снаружи, так что и рюкзаки, и герлов пришлось затаскивать через окошко.
Оля выразила надежду, что я не собираюсь заставлять её тоже влезать через окно.
- На Трахкранкурте ж лазала тока так, - возразил я.
Пока мы решили съездить к морю. В Крыму у приезжих нет проблемы, чем заполнить ожидание. Любое проведённое у моря время само собой себя оправдывает.
Славик живёт на Челноках, это новостройки, поднимающиеся от центра на гору вдоль улицы Челнокова, которая потом становится дорогой на Орджо, Орджо является конечным пунктом, дальше можно пройти только пешком по берегу, четвёртая бухточка – наша с Парфёном, в следующую можно пройти только по воде, а дальше уже Тихая бухта, а там и Коктебель. Не доезжая Орджо, есть поворот, ведущий к дороге на Коктебель с Симферопольской трассы.
Мы решили остановиться ещё раньше. От Челноков дорога карабкается в гору, а потом довольно рискованно устремляется прямо к морю, к Двуякорной бухте. Серпантин изгибается по складке горы, по обе стороны дороги крутые голые желтоватые склоны, кругом унылые марсианские пейзажи с никак не желающими приживаться посадками чахлых сосенок, а на заднем плане мрачно нависает над любой точкой округи злой горбун Кара-Даг.
За Двуякорной бухтой мысом выступает гора, за которой прячется Орджо. Двуякорной бухта называется потому, что в ней всегда такой ветер, что одного якоря недостаточно, надо бросать не меньше двух. И действительно, бухточки, что за Орджо – уютненькие и спокойные, Двуякорная же – огромная и какая-то тоскливая. Суша в ней не огорожена никакими горами, и в эту щель устремляются все ветры.
И что интересно – летом в ней почти никто не купается. Мы всё время ездим мимо неё из Орджо и обратно на автобусе и видим огромный пустынный песчаный пляж. В Орджо и дальше – полно народу у моря, в Феодосии за следующим мысом – тем более, а тут – сколько пустого берега и никого, разве что стоит одинокая, по неопытности не туда попавшая палатка.
Но раз-то в жизни надо же посмотреть, что она из себя представляет? Раз уж у нас такая оказия, раз на машине. Тем более всё равно на два-три часа едем, так не всё ли равно куда, стоит ли далеко забираться?
Да и вообще – это же такой ништяк, когда на всём берегу никого, кроме нас - разве нет? То самое, что Оля и заказывала, что я и обещал.
Ветер был такой, что песок сёк кожу и скрипел на зубах. Неприятно курить на таком ветру, сигарета сгорает за пару затяжек, да и вкус у дыма другой, какой-то жгучий.
К тому же ветер был холодным, мне было более чем странно, что в Крыму в середине июля может быть такая неприветливая погода. На таком ветру наше одиночество на пляже выглядело удручающе-отчаянным. В кино такие декорации должны были бы сопровождать безнадёжно трагическую сцену, феллиниевские похороны зимой на Сицилии или прощание Гутиеры с Ихтиандром.
В Феодосии вечером можно наблюдать необычно чёрный цвет моря. На западном берегу солнце садится в море, и это выглядит совсем иначе. А на Южном берегу горы не дают солнцу светить на море под таким низким углом. Тому, кто привык к обычному сине-зелёному морю, в Феодосии на Золотом пляже или в Двуякорной бухте цвет моря перед самым закатом начинает казаться, по контрасту с обычным опытом, зловещим.
Да ещё сиренево-лиловые волошинские размытые тени на холмах. Это не видение Волошина, не фантазия, как можно подумать, глядя на его картины – это на самом деле так и есть в этих местах, как он рисовал.
И мы валяемся на песке в позах бюнюэлевского скромного обаяния.
Общаемся мы с Олей. Мишелька тоже что-то вставляет, меня поддерживает. Элеонора, как это часто с ней бывает, как бы медитирует, то есть вроде и рядом находится, а вроде её и нет. А Мыша вообще скипнул погулять, причём совсем не беспечно, как он пытался изобразить, а таки с каким-то раздражением – как я уже говорил, мне казалось, что его беспокоит внимание, которое начала расточать мне Оля, хотя может и просто по жене затосковал или на солнце перегрелся.
Я рассуждал о том, что весь материализм придуман законспирированными волшебниками для широких народных масс. Как, впрочем, и религии, поскольку они тоже являются сугубо логическими построениями – само понятие чуда необходимо подразумевает существование жёсткой логики, от которой это чудо отступает, - объясняющими то, что необъяснимо, для того, чтобы профаны удовлетворились и не искали истинных ответов. И только тому, кто ничему не поверил на слово, кто искал и нашёл – тогда ладно, милости просим (цитирую «Дверь в лето» Чижа).
Например. Это было вступлением к тому, о чём я хотел сказать, и после него я обнаружил, что примеров может быть множество самых разных и противоположных друг другу. Но например – о том, что я сейчас и хотел просто отметить, но предварил таким обобщением.
Кастанеда утверждает, что мечтать – бесполезное занятие, то есть даже вредное – тем, что расходует нашу бесценную энергию, без которой большинству, кроме избранных безупречных, наступает пиздец.
Каковым бы ни было учение дона Хуана, Кастанеда выражает его в образах, рассчитанных на калифорнийца конца ХХ века, не трогательной сказкой, но жёсткой научной фантастикой, с ударением на «научную». И как и везде прагматичный пряник – бессмертие, в обмен на то-то и то-то.
Я думаю, что очень может быть, что исполняя то-то и то-то, достигнешь чего-то, ценность чего постигнешь только тогда, когда попадёшь туда, но упрямым ослам этого не объяснить, поэтому все учения содержат угрозы и морковки – без пинков, как без пряников.
Но я отвлёкся. Может, Кастанеда вычитал о том, что мечтать вредно, у Гурджиева, а Гурджиев ещё у кого-то. Я просто хочу сказать – а может, это и не вредно? Может, на самом деле – как захочешь, так и будет? Я мечтал о машине (и об Оле, телепатически прибавил я) – и вот пожалуйста. Народовольцы мечтали о совдепе – и тоже домечтались. Да что ни возьми – может, и вообще не может появиться ничего, если об этом кто-нибудь не мечтает?
Ну а если каждый дурак начнёт мечтать о всякой хуйне? Да так, собственно, постоянно и происходит – оглянись. Вот поэтому Учителя и говорят: лучше не мечтайте, ну его на хуй. Копите энергию, всё придёт само, то, чему суждено, что Джа пошлёт. А на самом деле пошлём мы, профессиональные мечтатели и деды Морозы (с третьего столика – см. «В джазе только девушки»).
Как и вообще любое колдовство во все времена было делом государственным, и любое частное предпринимательство в этой сфере объявлялось вне закона и религии.
А всё это я к тому, что видишь же сама – говорила ты в Москве, что в Крыму будет жарко, а ты этого не переносишь – и добилась того, что такого холодного июля я ни разу в жизни не видел, не кажется ли тебе, что ты переборщила?
Оля польщённо отнекивалась и смеялась, а я ведь, когда болтаю с девчонками, уж не знаю почему, но только этого и добиваюсь.
Например, в младших классах я выдавливал себе в рот на глазах завороженных зрительниц чернила из авторучки, а потом показывал язык – очень может быть, что смелись они не над цветом языка, а тому, какой я дурак, ну а чё умничать-то?
Или ещё у меня был номер – я вставлял в ширинку карандаш и, напрягая член, заставлял его шевелиться. Конечно, сидя, потому что веселил этим одноклассниц во время урока. А один раз просто взял и показал своей соседке, Гале Фрадкиной, кончик хуя, правда, когда с других парт стали обращать внимание, спрятал.
Просто я люблю, когда девчонки смеются, и готов ради этого на что угодно. Хотя некоторые девчонки любят, когда их дёргают за косички.
Ах, кого-кого, а Олю рассмешить не так-то просто. С ней вообще шутить следует осторожно – никогда не угадаешь, что она вдруг примет всерьёз. И она из тех, кто принципиально разделяет мух и котлеты – над этим смеяться дозволено, а этого не трожь. Возможно, у каждого есть неприкосновенные области, но у некоторых фанатизм охватывает значительную часть понятий.
Колдуньей Оля быть не хотела, с этим она не согласна. Она придерживается разделения на силы Ночи и силы Дня, и если уж вступать в их славные ряды…
- Так ты и так давно уже в их рядах, - перебиваю я.
А вот ты колдунчик, это точно. И правильно ты говоришь – лучше таким, как ты, таких вещей не касаться. Потому что стоит тебе выпить – любому сразу видно, что человек одержим бесами, поскольку под влиянием алкоголя и наркотиков бесы всегда у всех лезут наружу.
- Так затем и лезут, - возражаю я, - чтобы их засекать и отлавливать.
- Что-то незаметно, что ты преуспел в этом отлове.
- Да ты просто не знаешь, каким я был раньше. Так значит, по-твоему, шизофрения – это бесы?
- А то кто же?
Опять она говорит о том, чего насмотрелась, живя с Индейцем. Ему, наверно, нравилось не за косички девчонок дёргать, а пугать их, тоже есть такой прикол, и с Олей это ему вполне удалось. Это как Инкин папа, когда напьётся, обязательно шатается по квартире и рычит, пугает жену и дочку, и кайфует, как визжат и суетятся бабы. Ну что поделать – такие у них кайфушки. У Инки определение, чего ей не надо – когда кто-то напоминает ей пьяного папу. Оля же с ужасом узрела во мне тех же бесов, что и у Индейца. А ведь хороший вроде парень? Может, ещё можно его спасти?
Как только Мыша исчез, Оля, не стесняясь, стала щёлкать меня своим фотоаппаратом. При этом делала вид, что и Мишелька иногда в кадре (Элеонора в кадр так и не попала) и что вообще её больше занимает пейзаж. Я же, как профессиональная звезда, не обращал внимания на камеру, принимая выгодные для моего рельефного торса позы. При этом я чувствовал себя Каем, которого умоляет об интервью Снежная Королева.
Однако становилось уже холодно, а Мыши всё не было. Я ни с того, ни с сего разнервничался, может, перенял на себя раздражение, которое усмотрел в нём. Нервничать-то было не о чем, сиди себе, вечереет, море, Оля, машина ждёт, спешить некуда. Раздражала неопределённость положения, хотелось расположиться там, где уже окончательно. Я уже построил план, когда сидеть у моря, а когда у Славика, а Мыша обламывал этот план, и мной завладели бесы, которых накаркала Оля.
Мы расположились у впадающего в море ручейка, а Мыша ушёл по берегу за ручеёк, и я зачем-то завёл машину, такой у меня начался зуд, выехал обратно аж на дорогу и подъехал к морю с другой стороны ручейка – бессмысленные действия ради действий, всё равно Мыша ушёл по непроезжаемой тропинке и за время моих эволюций так и не появился.
А когда все наконец загрузились, я услышал, что что-то стало постукивать в машине где-то снизу. И именно после того, как я шизофренически колесил по этим буеракам. Что-то типа крестовины. Мишелька успокоил меня, что с полетевшей крестовиной можно ездить как угодно долго, ничего страшного – она ж только иногда стукает, а в основном ехать можно?
Я так огорчился этим стуком, что гнал вверх по серпантину, подчёркнуто торопясь к Славику, и на самом крутом из поворотов, крутизну которого я недооценил, нас очень кинематографично занесло – у меня ведь ещё к тому же и резина была почти лысая, на последнем издыхании. На самом деле всё было не так страшно, но у всех пассажиров возникла полная уверенность в том, что они только что чуть не полетели в пропасть. От неожиданности мне и самому сперва так показалось.
- Вот они, бесы-то, разве не видишь? – сказала, переведя дух, Оля.
- Но в итоге – всё успешно! – не соглашался я. – Значит, может – не бесы? Может, ангел-хранитель – но с чувством юмора? Или, с твоей точки зрения, одно исключает другое?
Я рассказал Оле и пассажирам, как когда-то прокатил меня по серпантину мой одноклассник Паша. У нас в тачке были тогда ещё две герлы, и так они своими выебонами разбередили Пашу, что он выдал им шоу – серпантин на Байдарские ворота прилеплен к вертикальной скале, каждый поворот на 180°, и каждый поворот Паша проходил юзом, лишь чуть притормаживая, чтоб развернуло, и, не сбрасывая газа, дальше, к следующему развороту. При этом наши задние колёса каждый раз изменяли направление движения метра за два до обрыва. В конце подъёма на краю бездны умостилась церковь, посмотреть на которую мы и ехали. Но когда мы подъехали к ней, герлы с посиневшими лицами выскочили из машины и поплелись в лес блевать, а может и обосрались, не знаю. На обратном пути они просили Пашу ехать побыстрее домой, но он то и дело останавливался и приглашал их полюбоваться чудесными видами, и они наконец ушли от нас пешком.
А достали они Пашу тем, что пить не хотели, да ещё и просили не курить в машине – это в нашей-то машине.
Я не сказал Оле, что это были не герлы, а охуевшие немолодые тётки. Я тогда скучал в Симфике, и Паша позвал меня с собою в Мисхор в качестве трезвого водителя. Там у него работал в санатории один приятель, Петя, и он обещал Паше познакомить его с курортницами. Паше просто хотелось тусануться, и выбирать было не из чего, а мне тоже было нехуй делать, хотелось на Пашиной машине хоть покататься. Я тогда очень любил быть Пашиным трезвым водителем.
Тётки оказались – обычные совдеп тетки, не поймёшь от тридцати до сорока, толстые, глупые, и при всей своей ужасности на что-то претендующие, как принцесса на горошину. Вот Паша и вкатил им не горошину, а целый аппликатор Кузнецова. Перед подъёмом он пересел за руль, а я воспринял это вполне беспечно, с полной уверенностью в том, что моё выживание зависит по крайней мере не от Паши.
Что-то много у тебя друзей, воюющих с бесами, сказала Оля. Хорошо хоть Мишелька вроде не из таких? Знающая Мишельку в кругу домашних Элеонора усмехнулась.
Своих бесов я показал Оле во всей красе в тот же вечер, окончательно разочаровав её – нет, всё-таки неисправимый алкоголик. Я даже не помню того вечера, такая дрянная попалась разливуха, но могу предположить, что всё было очень напряжно, вот я и пил больше всех.
Пока я ещё соображал, я рассуждал о сведениях, почерпнутых мною у Малахова, о том, что дни перехода луны из фазы в фазу – критические, не стоит утомляться и т.д. Я вдруг врубился – вот в чём оказывается смысл понятий недели и воскресенья. То есть разумно – трудиться на протяжении фазы и отдыхать в дни перехода. А календарь – яркий пример того, как с веками утрачивается мудрость. Календарь – это как раз и есть план, придуманный людьми, и как же редко он чисто случайно совпадает со вселенским планом, по которому живёт всё сущее, не обременённое интеллектом. А экстремум человеческой тупости – саббат, наотрез запрещающий работать, но совсем не в те дни, в какие рекомендует Джа, а в назначенные фанатиками якобы от его имени.
Установили хорошо и плохо, свет и тьма, распалялся я, с тех пор рай и потерян. И всё ближе и ближе пиздец всему живому, всё ещё живущему в раю лишь постольку, поскольку уклоняется от вмешательства людей с их комбинатами. Интеллект – роковая ошибка эволюции.
Дальше я мрачно, хоть и не без игривости, стал сравнивать календарь с подходом людей к размножению. Мудро – ебаться с кем захотелось когда захотелось. Только в таких случаях возможно гармоничное продолжение рода. Любовь и либидо лучше знают, с кем и когда – любовь выбирает, либидо настраивается по звёздам или там луне.
Ну а как размножаются на самом деле – известно. И по каким параметрам выбирают друг друга, и как ебутся по расписанию. Да ещё и абортируют плоды истинной любви, зачавшиеся вопреки человеческим планам, несмотря на них.
Отсюда – все уроды. Не зря же Фредди Крюгера родила изнасилованная толпой зэков монашка (что ни слово, то символ!). А если приглядеться – подавляющее большинство человечества зачато точно так же!
Божья искра проскакивает только во время обоюдного оргазма. Зачатые без оргазма – просто биороботы. Оргазм – это и есть недостающий элемент триединства, тот самый святой дух. Зачатье с бурным оргазмом и есть непорочное.
И дальше я стал взывать к маме – зачем она меня рожала, если не хотела больше всего на свете поебаться с папой? Родила, потому что решила, что пора бы уж после шести абортов. И получился недоделанный дундук со склонностью к суициду.
Ну и так далее. Ночью мне было ужасно плохо, я валялся на матрасе на балконе и стонал и ругался, а иногда пел «мама, я очень болен», а лежал я под окном комнаты, в которой спали Оля с Мышей, и мешал им спать – всю ночь, говорит Оля, с бесами сражался.
Напряг возник из-за того, что Оля, увидев магнитофоны и микрофоны, испугалась, не принудят ли её опять работать на пиратскую запись. Удивительно, как они боятся пиратства, явно имеет место гипноз – ведь прекрасно знают, как ценятся именно бутлеги Моррисона или “Beatles”.
Я ещё и сказал ей, что когда-то у него была кликуха Вождь, чуть ли не индеец. Конечно, не только этим он ей не понравился. У Карцева с Ильченко была миниатюра: «У нас диспут. Мне не нравится ваш пиджак» – «Мне он самому не нравится» – «Товарищ не понимает. У нас диспут. Аргументируйте». Так вот, мне самому Славик не нравится, но такой уж он у меня одноклассник.
Так задёшево продался! Мог бы тусоваться по студиям в Москве и Питере, быть гитаристом, басистом, звукооператором – легко, мне бы его способности. А он выбрал распределение ради совдеп трудовой книжки и мифической пенсии. Плюс старше его на семь лет, зато гарантированную пизду с вытекающими тёщей и чадом. Славчику очень льстит, когда я называю его Вождём – к сожалению, со временем у меня становится всё меньше для этого оснований.
На хуя Оле мои друзья неудачники? Парфён – ещё ладно, неудачник в вероятной, но перспективе. А Славик – диагноз окончательный, пиздец мы не лечим.
Интересно, каково бы ей было познакомиться с отсидевшим за убийство Свиндлером?
А Славик – тоже почему-то не прикололся к Оле. У него на балконе своя дань граффити: Фил (на первом месте), Свиндлер, Вася (с которым у него в Феодосии была группа, но Вася скорешился с христианами и объявил рокенрол происками сатаны), Шанхай (это Риша, её гордый псевдоним). Славик говорит, что он просто очищает таким образом кисточки от краски, чтоб зря не пропадала. На следующее лето я обнаружил, что он чистил очередную кисточку – УМКА. Для Оли у него кисточки не нашлось.
С раннего утра я охуевал, бегал за пивом, потом спал, охуевала Оля – сколько это будет опять продолжаться? Поэтому я, проспавшись, сразу двинул дальше. Куда? Оле всё равно куда, лишь бы тормознуть моё пьянство. А у меня в программе следующий после Тарханкута пункт – Мангуп. Славик – это так, за ластами надо было заехать, как же без ласт? Да и просто по кайфу использовать возможности машины: раз – на Трахкранкурт
Но уж очень насыщенной бесами или не знаю, какой хуйнёй, оказалась эта разливуха. И поташнивало меня, и мотор прихватывало, и сковывало напряжением от неуверенности в своей координации движений. В Грушевке мы остановились перекусить чебуреков. О еде я и думать не мог, но зато выпил квасу, немного полегчало. К Симфику я уже пришёл в себя.
Домой ко мне заезжать не стали (опять пьянство), прочухали из конца в конец на Севастопольскую трассу.
7. Аллилуйя
Я предлагал, пока не стемнело, поехать к морю – на Мангуп мы в темноте так и так не поднимемся, так уж лучше переночевать у моря, чем неизвестно где у дороги. Ведь рядом же – туда-сюда лишних
Мыша с тех пор, как обломился, решил мне во всём перечить. В данном случае он наотрез заявил, что опять утром будет раскачка, покупаться, позагорать. И опять мы не попадём на Мангуп – а ему почему-то захотелось вдруг попасть именно туда.
В чём-то он был прав, хотя не совсем, с утра-то всё же ништяк искупаться в море, а собраться можно и быстро, это же не на флэту зависалово. Но спорить мне не хотелось, и мы проехали поворот у Почтового.
Какая в сущности разница, подумал я, раз такое знамение – значит такое.
В Бахчисарае прямо возле автостанции раскинулся большой персиковый сад, никем почему-то не охраняемый. Во всяком случае, четыре года назад мы с Элен и Нэт затарили в нём полные рюкзаки, да и до этого я в нём бывал.
Олю моё предложение набрать на халяву персиков глубоко возмутило.
- Честнее их купить! – воскликнула она. Воскликнула – иначе не скажешь. «Честнее» – дословно так. Нам с Мишельками осталось только переглянуться.
Мы каждое лето радуемся, когда благодаря нашему подвижному времяпровождению предоставляется случай накоммуниздить винограда, помидор, картошки, чего угодно, лишь бы на халяву – однажды в темноте мы насобирали на поле кабачков, думая, что это дыни. У кого купить-то? У того, кто сам точно так же на колхозном поле их натырил? Эти поля остались от социализма, при котором не только по идее всё было общим, но и, что справедливо, порой и на практике, мы же не в огороде у бабушки воруем, а берём на ничьих, на наших общих полях. Кто-то там успел и сумел прихватизировать бывшую общей собственность, а мы подбираем, что осталось, колоски.
- А как же яблочко в клипе? – спросил я, но ладно уж, проехал мимо сада. Может и в самом деле персики ещё зелёные. А может, Оля почувствовала, что клип может оказаться пророческим?
Позже я узнал, что в том году сад охраняли специально нанятые омоновцы. Стрелять они, конечно, не стали бы, но заплатить им за их работу пришлось бы.
За автостанцией свернули налево в Старый Город – раз уж проезжаем Бахчисарай, как же не посмотреть Чуфут-Кале? А может, и заночевать там где-нибудь удастся?
Я с удовлетворением отмечал, что старая часть Бахчипарижа (как говорят крымчаки) производит на Олю впечатление, на которое я рассчитываю, привозя сюда тех, кто выбрал меня гидом. Узкая петляющая дорога, на которой двухэтажные ретро одесско-татарские домики непривычно для урбанистичного человека сочетаются с одушевлёнными крымскими утёсами. Особенно такие скалы впечатляют, когда неожиданно встают за поворотом, нависая над самой дорогой, как поджидающие великаны с разбойными наклонностями. Там, где успел поработать вечно догонявший Запад совдеп, человеческое жильё уже не вписано в природу, а натянуто на неё, как гандон.
Ханский дворец проехали мимо, Оля даже не заметила. Уже скоро закат, а не такой уж он и дворец.
- О, наши люди! – обрадовалась Оля, увидев бредущее по дороге семейство хипаков – неразличимо одинаковые джинсовые мама с папой с одинаковыми грязно-жёлтыми хаерами и одинаково просветлёнными лицами, папу можно отличить по чилдрену на плечах, такому же солнечно-волосатому.
Я помнил, что от конечной остановки автобуса вверх, мимо справа Успенского монастыря и слева внизу загородного дурдома, идёт дорога, и наверху на лужайке, с которой начинается тропа уже прямо к крепостным стенам, я встречал раньше пикникующие машины.
Но оказалось, что эта дорога перекрыта шлагбаумом, а на автобусном кругу к нам сразу подскочили два шустрых и наглых парнишки и объявили, что стоянка здесь платная, 2 гривны (больше доллара, ого!).
- А что будет, если оставить просто так? – спросил Мишелька.
- Тогда мы не гарантируем её сохранность, - ухмыльнулись пацаны, - дурдом-то вон рядом, мало ли что какому психу вдруг в голову взбредёт?
Подъём к Чуфут-Кале от автобусного кольца довольно крут для непривычного к ходьбе горожанина, и как-то само собой, случайно и непринуждённо вышло, что мы с Олей вырвались вперёд. Обычно мне приходится замедлять свой шаг из-за попутчиков, а за Олей надо было поспевать, ноги у неё хоть худые, но длинные.
Видишь, показывал я Оле, под нами в ущелье дома – это комплекс дурки. Тут иногда прогуливаются расконвоированные психи, стреляют у туристов сигареты. Не находишь ли ты в этом сюжета для песни – слева дурдом, справа монастырь, а дорога в рай посередине, главное не оступаться.
Слева ущелье, а справа скала, в которой высечены пещеры Успенского монастыря. Четыре года назад это были обычные крымские останки истории, а сейчас я был поражён – всё ожило. Посередине широкой древнеримской лестницы, ведущей от дороги к пещерам, выросла маленькая часовня, или как называется миниатюрный церковный домик? Сами пещеры оделись окнами и свежей штукатуркой. Ущелье смотрит на юг, солнце уже ушло за гору, и в окошках было видно мерцание свечей.
Оказалось, там в полный рост шла служба. Ни одного туриста – очевидно, мы вторглись на репетицию, во всяком случае к нам сразу направился мужик в рясе рядового и объяснил, что в храм даже мужчинам в шортах заходить не полагается, а уж бабе, из ребра сотворённой твари, и подавно не пристало, да ещё и простоволосой. Разумеется, я пересказываю своими словами, а в двух словах смысл был такой – на хуй с пляжа.
Мы развернулись, и нас сразу позвал монах из-за приткнувшегося у входа столика с религиозными сувенирами. Судя по характерной интонации зазывания, до пострига он торговал на крымском базарчике. Что мы в шортах, ему, конечно, было похуй, то есть наоборот – таких-то и следует зазывать. Мне так и захотелось спросить: «Пиво свежее?», но при Оле я сдержался.
Конечно, если они сами парятся в рясах, совершенно справедливо на их территории и от нас требовать того же – глупо (и значит, что-то тут уже неживое) то, что сами они в рясах. Даже у полиции и у военных есть тропические варианты формы.
Мы вышли на площадку типа балкончика. Я знал, что прошлым летом Оля около месяца проторчала в каком-то монастыре, изгоняла из себя бесов Индейца. Я тогда очень боялся, как бы у неё совсем не съехал крышак, как у Феди Трезвякова, как бы она вслед за прочими скоропалительно прозревшими не объявила рокенрол сатанинскими игрищами. Она ограничилась тем, что отреклась от Джа – для урождённого православного такое предательство не западло. Они ж думают, что Джа – это одно, а Иегова – другое. Цепляются за слова, как герои Сальвадора Дали за костыли.
Впрочем, так я думал, когда любил Олю бескорыстно и безнадёжно, а сейчас мне захотелось разделить её точку зрения. Уж так сильно мне хотелось стать частью её, что я искренне, ни дэцел не притворяясь, прикинул, что вообще-то нехило было бы уединиться в монастыре, не платить ближним за заботу своей быстро проходящей жизнью и энергией вдохновения, а направить всю эту энергию на достижение своих целей – то ли роман отстукать, то ли самадхи подостигать.
И уж всяко, пытался доказать я Оле, лучше оставлять мирское в Крыму, а не на Печоре – если есть свобода выбора места заключения.
Мы даже порасспрашивали какого-то мужика, сложно ли стать здесь послушником. Оказалось, сам он даже не послушник, это ещё заслужить надо, а просто работает тут. О, может дворники нужны? – встрепенулся я. Это надо говорить с отцом настоятелем, отвечал обучающийся искусству смирения мужик. Больше ничего нам узнать не удалось.
Мы спустились на дорогу – где же ребята? Наверно, пошли к Чуфуту, предположил я. А куда им ещё деться? Дорога одна.
До Чуфута было ещё далеко. Сперва по грунтовке, потом по спрятанной в кустах тропке, потом по выжженным белым камням остатков древней дороги, взбирающейся по голому, с жухлой травой склону.
Ворота, конечно, в такое позднее время были уже заперты. Мы присели на обточенных камнях высеченной в туфе площадки, и я стал рассказывать, как четыре года назад мы в такое же время взобрались сюда с Элен и Нэт. Тогда мы твёрдо намеревались ночевать в Чуфуте, поэтому поползли вдоль подножия крепостной стены, подыскивая, где бы её перелезть. Влезли мы на стену довольно рискованно, передавая друг другу рюкзаки, подстраховывая взбирающегося, молодцы девчонки, впрочем, ты, Оля, я заметил, на Трахкранкурте тоже очень ловко ползала, я даже не ожидал.
Достопримечательности мы оставили на утро – вдруг тут есть сторож? По-партизански, как настоящие индейцы, мы пробрались на противоположную сторону плато и там расположились прямо у обрыва над ущельем, напоминающим фильм «Золото Маккены». В наступающей темноте мы собрали дров, воду мы принесли с собой, я сложил очаг из кусков известняка и стал изображать из себя дона Хуана. Когда мы уже пили чай, оказалось, что сторож тут существует, с ружьём и собакой.
Ну, он же видит – мы не бухаем. Костёр – зальём, вода есть. Девчонки тю-тю-тю. Он отвёл меня в сторону – вообще-то штраф 50 тысяч карбованцев, но сойдёт и 5 – я точно помню, что сколько стоило в каждое лето инфляции, и могу сказать, что по покупательной способности это было, как полтора рубля в 90-м или 150 тысяч (карбованцев, не рублей) в 96-м, в общем, полбутылки водки. Я потом радостно говорил герлам, как, оказывается, всё просто и совсем не дорого. Деньги-то у нас всегда были только у них, я был проводником.
На самом деле выпить у нас было – пузырь ркацители. Курнуть не было, в Крыму летом с этим сложно, у большинства местных все запасы кончаются ещё зимой, это ведь в Питер везут, а тут только своя. Была у меня припрятанная на особый случай простая питерская чуйка, но мы с герлами сразу скурили её во время оргии, посвящённой нашей встрече в Марьино.
А пузырь был символическим, чтоб самим себя убедить, что от чего-то кайфанули. На самом деле всё и так было чудесно. Мы постелили одеяло среди высокой, по грудь травы, которую всю ночь колыхал набегающий с обрыва ветер, и улеглись лицами к безумным крымским звёздам. В кустарнике, который мы называли чаппаралем, прятались духи тех, кто 500 лет назад жил в этих выдолбленных в камне пещерах. Мы были отрезаны от всего мира крепостными стенами и охраняемы сторожем с ружьём и с собакой.
Я думал, ребята где-то здесь лазают и скоро появятся, но никого не было, только мы с Олей сидели под древними стенами в сгущающихся сумерках. Раз народ куда-то пропал, залезать внутрь не будем, решил я, пошли обратно.
Представляете, какой болван? Наконец ситуация, ради которой и затевалось всё это путешествие, и декорации – лучше не придумаешь. Оказаться наедине с девушкой не в обоссанном подъезде, но возле крепостных стен вымершего города. Тут не просто оторванность от всех людей из-за того, что кругом ни души, только птицы и кузнечики, да безмолвные зигзаги ящерок – тут мы отстранённо взираем на вереницу веков, застывших в очередном закате. Кто-то любил и рожал в этих пещерах, и всё было точно так же, и пришло наше время любить, только мы – двое живых в этих нагретых за день камнях.
А я, войдя в роль экскурсовода, продолжаю долдонить свои старпёрские мемуары. Как будто рядом со мной не девушка, нежная певунья, а группа нефтяников, отдыхающих по путёвке.
Под деревьями стемнело окончательно. Только сейчас я с болью вижу, какой же я долбаёб – я шёл и балаболил чё попало, лишь бы поддержать разговор. О том, как в то же лето познакомил Нэт с Максом, а сейчас они не просто забраковались, а даже в церкви обвенчались. С чего я взял, что Оле интересно слушать про моих бывших герлов и никому не известных приятелей? Я приводил их в качестве иллюстрации моей теории водного братства – оказалось, что Оля не читала «Чужой в стане чужих» Хайнлайна, и я пытался передать суть в двух словах, хотя сам же терпеть не могу, когда мне пересказывают книги или фильмы.
А надо было просто обнять её, мудило! Про это даже у «Сектора газа» песенка есть. Сюжет хрестоматийный, у той же Оли есть песня «Сделай что-нибудь», в голливудских фильмах это словосочетание выглядит ходульным, но Оле удалось одухотворить эти слова.
Ну хоть бы за руку взял, в темноте это выглядело бы даже безобидной заботой о женщине. А там уже можно сжать руку крепче, погладить... Я же вместо этого нёс полную околесицу, посвящая её в свою шизанутую теорию о водном братстве всего человечества, мол, достаточно всем соединиться со всеми через паутину сексуальных связей – и начнётся дорога в рай. Такой девушке в такую минуту пропихивать такой бред!!! Разве что с целью ещё больше заинтриговать её своей оригинальностью, которую в данном случае можно смело назвать ебанутостью на всю голову.
Взять бы просто и поцеловать – сделать то, чего хотелось, и будь что будет. По-любому ведь, даже если и решит обломиться, немедленно ей валить некуда, а завтра будет новый день, и путешествие продолжится, но в иной тональности. Это уж её дело отказаться – но предложить-то ты обязан. Просто показать ей, что ты мужчина и что воспринимаешь её как женщину – это ведь приятно даже тогда, когда женщина и не хочет ровным счётом ничего от этого мужчины.
Нет, ну ты чё – дурак? На хуя тогда звал в Крым? Вот наконец вы наколдовали, что естественно и неспециально остались одни – и на небе звёзды, а ты продолжаешь грузить словами - в натуре маньяк!
Уж больно похожей на мою маму показалась мне Оля и уж слишком упорно твердила мне мама, что близость мужчины и женщины – низость. Я повёлся на их разводки.
Я вёл себя как в шестом классе, когда Галя, в которую я был влюблён на предыдущем этапе, перешла в другую школу, и из-за этого свершилось знамение -–на опустевшее рядом со мной место посадили Аню, новенькую, в которую я сразу влюбился совсем по-другому, чем в Галю. Три года я томился рядом с нею и так ни на что и не решился, после чего так обломился, что сам перешёл в другую школу.
В юности я понятия не имел, что нужно делать, оставаясь наедине с герлой.
Одноклассница в новой школе Аня поцеловала меня первая, устав дожидаться моей активности. Правда, целоваться мы не умели, просто открывали губы и прижимались зубами друг к другу. Мне гораздо интересней было безнаказанно тискать её грудь, а целовался я для отвода глаз.
Через некоторое время одна тётя научила меня целоваться по-настоящему, действуя языком, больно заглатывая чужой язык и т.д. То есть на самом деле ей было 23 года, но Джа свидетель, для меня она была тётей в полный рост, практически так же, как если бы ей было 50 – такой она представлялась мне опытной и пожившей. Она сама себя так преподносила, рассказывала мне о своём трагическом романе, о том, какой красивой она была в 17 и во что одета. В первый раз она меня выебала так, что я и не заметил, это было в горах в походе, она перебралась после поцелуев в мой спальный мешок, загадочно прошептав перед этим: «Я знаю, чего ты хочешь», хотя сам я лично понятия об этом не имел. Просто в самом начале похода оказалось, что у неё больное сердце, и я уже два дня нёс её по горам, в основном на закорках, но иногда даже на руках, вдыхая запахи её волос, а остальные самбисты тащили по очереди мой рюкзак. Сейчас я не исключаю того, что это тренер решил так нас приколоть – зачем он вообще брал её в поход с какой-то там болезнью? И она тоже прикололась – сперва ведь все несли её по очереди, но потом выяснилось, что я легче всех с этим справляюсь, и именно меня она решила научить поцелуям.
Когда она залезла в мой спальник, я сперва с большим удовольствием насладился тисканьем её груди, а потом обнаружил, что она, в отличие от Ани, не возражает против того, чтоб я залез ей в трусы. Я сунул руку, осторожно покопался в волосах и несмело запустил пальцы глубже. Там оказалось так мокро, что я очень удивился и даже забеспокоился, уж не обоссалась ли она, и тут она так застонала, что я испугался, что делаю что-то не так, и потащил свою руку прочь, но она взяла мою руку своими и сама засунула её обратно, а потом вытащила мой хуй и направила его куда нужно, и это было действительно самое приятное изо всего, что я испытал в жизни, но уж больно быстро, а она сразу побежала к речке подмыться, а я остался размышлять над происшедшим. По возвращении я сразу похвастался Игорю.
Потом она разыскала меня на моей тренировке, после чего мы довольно часто гуляли и целовались, но мне даже в голову не приходило что-то делать для того, чтоб повторить это единственное в своём роде чудо. Наконец она зазвала меня в маленькую обычно пустую спортивную гостиницу, в которой иногда дежурила по ночам, и мы целовались на диване возле телефона часа, наверно, два, пока она не сказала очень грустно, так что мне запомнилось: «Как мало знаешь ты о нежности…», и повела меня в пустой номер, где она сама разделась (меня слегка обломили красненькие болячечки на бледном теле) и проделала со мною все упражнения, примерно как с борцовской куклой.
Я решил, что теперь меня научили, что я должен делать, но впоследствии столкнулся с задачей, с которой до сих пор не уверен, что разобрался – когда же именно наступает момент, когда с женщиной уже пора переходить к тому, что ведь в конечном счёте всегда и подразумевается? Оказалось, что лишь некоторые откликаются сразу и без выебонов, большинство же обламываются, если я сразу даю понять, ради чего мы тут специально собрались вместе. С ними обязательно нужно сперва сыграть. Наверно, только для этого я и стал сочинять стихи – после них переход к поцелую прокатывает как правило плавно. Но стихи – это в итоге, а сперва нужно исполнить то, что принято называть, как мне кажется, мещанским словом «ухаживание».
А ещё есть бабы, которым обязательно нужно, чтоб их как бы насиловали, а они, кто в большей, кто в меньшей степени имитируют сопротивление. От монголо-татарского ига это что ли осталось? По-моему, это нечестно – делается для того, чтоб переложить на мужика ответственность за происходящее. К тому же я покладистый, Джа её знает, может, она действительно такая ебанько, что у неё есть серьёзные соображения против того, чтоб потрахаться с таким красавцем, как я. Я уважаю чужие религии, потому что не хочу встревать в чужие предрассудки.
Нет, с возрастом у меня всё чаще бывает гораздо проще.
Индеепендент «Глас»
Август 97
В августе Элеонора привезла из Орла вместе с Гийкой свою сестру Женю с дочкой Тамарой.
Фэйсом, честно, вернее объективно говоря, не очень. На самом деле, когда узнаёшь, что это лицо живого человека, начинаешь видеть чудные ракурсы, и наоборот, не исключено, что под безупречностью топ-модели найдёшь маску куклы, разве нет? Которая ещё заебёт своей безупречностью. Из Жени я вполне смог бы, если б вдруг понадобилось и если б она согласилась, извлечь фотоаппаратом модель не хуже любого порножурнала, конечно, если бы кто-нибудь подобрал ей макияж и чулки. Фигурка-то ладненькая, всё же 26 всего, вернее как раз. Щиколотки, правда, тяжёлые – ну это можно одеть какие-нибудь эротические сапожки, а вообще-то это мой личный заёб, так же как обязательны для меня волосы, а волосы – ништяк. Можно б, конечно, и подлиннее, наверно, ей просто лень, но так – густые, конкретные, прямые, русые, свои. Вот, кстати, странность некоторых герлов – Женя, когда у неё появлялось острое желание нравиться, сразу распускала и расчёсывала свои волосы, это, конечно, правильно, но почему бы и всегда не ходить в таком виде? Такая игра в контрасты, как бы сталкинг, характерные ведьминские, надо сказать, приёмчики. Впрочем, по приколу – наблюдать, как герле всё чаще начинает хотеться нравиться.
Чего-то там начинает ей хотеться, и это ништяк. Не просто ебаться, а вот именно чего-то. Там, за горизонтом. Есть такая ростовская группа «Там! нет ничего».
В первый вечер в Симфике мы напились, я валялся под музыку на земле и лез руками под юбку сидящей на бревне Жене, норовя проникнуть в её промежность – типа я такой пьяный, и она тоже пьяная и не обижается. А чего ей? Замужем побывавшая, рожавшая, без мужика сейчас. Однако я просто баловался, поскольку собирался на следующий день искать в Симеизе Вивьен с Алёной.
В Симеиз я смотался безрезультатно, лишь для того, чтоб узнать, что омоновцы разогнали тусовку, и пипл переместился кто в Форос, кто в Коктебель. Ладно, думаю, я хоть попробовал – поискать романтики. Придётся просто ебать просто Женю.
Вернувшись в Симфик, я узнал, что все Мишельки уже в Гурзуфе, и поехал туда же. Сперва мы пили, а потом я пригласил Женю сходить за водой к верхнему роднику, это далеко, одному скучно, а родник древний, даже год прошлого века на нём выбит, стоит того, чтоб прогуляться.
Уже зная мои замашки, Женя всю дорогу ожидала, когда же я начну приставать, но ведь так не в кайф будет, натрахавшись, ещё и за водой переться, поэтому мы поднимаемся, наполняем ёмкости, спускаемся чуть ли не обратно, до кустов на обрыве над нашей стоянкой на берегу, она уже, наверно, удивилась – неужели Фил только болтать горазд? – и тут настало время поцеловать её и увлечь по тропинке в кусты, а в конце тропинки (честное индейское, по знамению, я заранее не разведывал) оказалась хижинка над самым обрывом, сплетённая из тростника хорошими, сразу видно, людьми. Три плетёных стенки в полроста, плетёная крыша, на ней привязаны целлофаны, на полу тоже тростник и не очень свежий, конечно, но вполне приемлемый спальник.
Перепихнулись так себе, наспех, чисто символически, чтоб застолбить на будущее. Портвейна мы выпили довольно много, и я всё никак не мог кончить, а Женя то ли устала вдруг с непривычки, то ли действительно переживала о том, как воспримут нашу задержку остальные. А кто остальные-то? Мишелька с Элеонорой, мои братушки и её сестрёнки. Я им сразу, продолжая пить портвейн, порекомендовал разведанную нами хижину. А мы Гийку посторожим.
На другой день я съездил всё же на всякий случай в Форос. Но Вивьен там уже не было, а Алёна жила в одной палатке с Мафи. Я и сам не знаю, зачем я туда ездил, просто для очистки совести.
Второй раз я затащил Женю в эту хижину прямо с берега по обрыву, то есть не тащил, она сама за мной лезла, мне, собственно, и было интересно – полезет или нет? Местами влезать было очень даже непросто, на каждом шагу то шиповник, то ежевика, я сам поцарапался, ну, я-то летом всегда исцарапан, а вот Женя проделала восхождение безупречно, зато потом в хижине её кто-то укусил за жопу, она сперва и не заметила, но в итоге образовалась болячка, которая так теперь и останется следом на память. У Инки тоже есть такой шрам на кобчике – растёрли о кухонный пол на квартире, которую снимала Галинка, когда я откинулся с зоны. Есть и у Галинки такая же отметина.
На этот раз я показал Жене, что могу и кончать, и поскольку она просила по возможности не в неё, я окропил её струёй от живота до фэйса, чуть-чуть до губ не донёс.
Но она и на этот раз не позволила себе дойти до полного оргазма.
И наконец по-настоящему кайфово у нас получилось ночью прямо на берегу, уже и Инка приехала, и мы втроём погуляли вечером с выводком детей – Филька с Гийкой адетруа с Тамарой, а я с двумя герлами, Инка проявила полную лояльность, мы очень мило напились, пока дети гуляли в ночи – Фильке как старшему выделили денег на мороженое для всех и на стрельбу из лука, - пили мы на пустой полутёмной площадке над «Тарелкой», откуда неслась музыка, и мы танцевали. В былые годы мы и в «Тарелке» сиживали, но как сейчас, одни на площадке среди кипарисов, согласитесь, не только дешевле, но и душевней – хуля там хорошего-то, тупые и пьяные мажоры. Потом, уже на выходе из «Спутника» мы вместе со всеми детьми танцевали на крыше какой-то дискотеки.
Мол, не только мерзкая плоть, но и рокенрол, и любовь… или дружба? В общем, вводное братство.
В тот вечер ещё и Мильён приехал, тоже со своим выводком, поиграл нам на флейте, засэйшенил даже всю тусовку на подручные перкуссии, а когда все позасыпали, мы, нацеловавшись у костра, побрели под нарастающей луной по берегу, прихватив одеяло.
И так ништяк, и так, и сяк… есть что вспомнить. Просто классико, и Женя была безупречна. Случается такое иногда у Козерогов.
И что же дальше? Перед сладким засыпанием в обнимку она мне заявляет, что решила всё-таки не оставаться (Мишельки уже уговорили её остаться ещё на какое-то дополнительное к запланированному время).
- И знаешь, почему?
- Почему?
- Я боюсь в тебя влюбиться.
И что я должен отвечать на это? Уговаривать её остаться? это ладно, но как насчёт «влюбиться»? Да ещё – «боюсь»! Это ж надо так преподнести.
Я не знаю. Я вон влюбился в Олю, так что ж мне теперь – ходить по пятам и ставить перед ней этот вопрос ребром? Влюбился – ништяк, но только ж это должно помогать как-то по жизни тому, в кого влюбился, а не ставить перед ним проблемы. Ты влюбился или ты к себе любви возжелал?
На следующий день она приревновала меня к Инке, это к законной моей вот уж сколько лет жене! Кстати, мы с Инкой не ебались, а просто грибы собирали, но объясняться об этом с Женей – совсем уж что ли девочка охуела?
Вечером мы снова все напились, и Женя сперва ништяк меня приколола: сидим вдвоём в темноте рядом с палаткой, метрах в десяти от костра, и она вдруг в страстном порыве притягивает меня к себе, и оказывается, что её щель горячая и алчущая. Я мигом не растерялся (как удобно всё-таки нудистам), и ни подошедший Гийка ей не помешал, ни потом Филя, но на Тамарке она решила всё же опомниться. Хотя зачем опоминаться, надо было просто сразу залезть в палатку и задёрнуть молнию, но Козероги так не могут, у них или как бы голая страсть или – голый рассудок, без коктейлей.
А вот пойти потом со мной за портвейном (и спокойно предаться всем страстям по дороге) она не захотела.
Ну и прощай навек, раз так, решил я. Ещё и линзу потерял – знамение, что хорош размахивать либидом, пора ехать машину чинить.
Элеонора залупилась на меня за то, как я жестоко расстался с Женей. Ну а как? То влюбилась, то ревнует, то идти за портвейном не хочет. Я уже давно всё это слышал и ничего кайфового в этих играх не нашёл. Хочешь быть братишкой – это всегда, а мозги ебать не надо, тем более так примитивно – русский психический вариант западного физического садо-мазо.
Тяжёлые всё же Земные знаки, как в анекдоте: злые вы. И очень любят залупаться (Элеонора тоже Дева, вот ведь напасть).
- Конечно, - обидчиво сказала мне Женя, - я просто сапожник.
Она работает в цехе по пошиву обуви. Мол – не певица.
- Ну и что, - возразил я, - а я просто дворник.
Когда мы с Олей вышли на дорогу, из темноты послышалось хоровое пение монахов. Не из монастыря – судя по направлению звуков, возле него были ещё пещеры, которые монахи, очевидно, обжили и превратили в кельи.
Когда мы подошли ближе, Оля предложила остановиться и послушать. Я честно послушал. Всё ясно. Я тупой и эстетически неразвитый дегенерат. Я способен расчувствоваться от пацанов в подъезде, от герлы в подземном переходе, не говоря уж о бродягах у костра, но я баран и новые Двери в одном лице по отношению ко многим общепринятым авторитетным ценностям. И в глубине души я не верю этим авторитетам, как Шариков считал ханжой и выпендрёжником Преображенского. В юном возрасте я бывал на операх – ну разве можно сравнить их с “Jesus Christ Superstar”? Я думаю, если бы во время путча непрерывно крутили не Чайковского, а Фрэнка Заппу, всё бы вышло совсем по-другому. Однажды я ходил в Питере на органную музыку и заснул там – во-первых, после поезда, во-вторых, устал прислушиваться, без усилителей и колонок ни фига не слышно. Я примитив – я улетаю от рэгги, но как ни стараюсь ни хуя не могу расчухать в раге. Вот если бы монахи вдруг спели хором “No woman no cry” или на худой конец “Yesterday”, я бы прикололся.
Оле я этого не говорил, а стоял и слушал, изо всех сил пытаясь въехать в торжественность момента: с Олей, в темноте, слушаем пение монахов в пещере. Звёзды, крымские степные запахи. Кино и немцы.
Умка поняла бы меня – последовавшей зимой она как-то раз попросила меня в машине поставить Олины блюзы, но когда Оля запела «Аллилуйю», Умка попросила перемотать на другую сторону: «Я очень люблю, как поёт Оля, но эти её задвиги я не могу слышать!»
Пожалуй, я воспринял бы это пение иначе, если бы мы с Олей нежно целовались. Но мне казалось, что при её жёстком делении на духовное и плотское об этом нечего и думать.
Я сам вообразил, что она богиня, а не сапожник. Я, неутомимый теоретик и практик сексуальной революции, пошёл вдруг на поводу у трафаретов, о которых я думал, что они изжиты, а оказалось, что лишь подавлены. Так полюбил, что не до грубой физики. (Я так тебя люблю, что даже не еблю).
Ещё оправдание: я ждал знаков с её стороны. Но – она согласилась поехать за тридевять земель, чтоб спать на камнях под открытым небом. Какие ещё знаки тебе нужны?
В этот вечер я упустил единственный шанс. Искать сближения раньше было рано. Поехала она в Крым – и что же получила? Сперва я бухаю в Днепре, потом в Симфике, потом в Феодосии – красавец! На неё ноль внимания, только показываю, какой я удалой. И всё же в этот вечер, мне кажется, Оля была бы готова забыть всё это. Об этом можно было бы припомнить потом – раз уж ввязалась во всё это, попробовать-то всё же надо, а уж потом решить – да, к сожалению, мне сразу так и показалось, но я надеялась, но увы.
А искать сближения позже – стало поздно. Она предоставила шанс, я не заметил – ну и, значит, знамение, не больно-то и хотелось с самого начала. Значит, и впрямь хочешь быть просто экскурсоводом?
Дурак, дурак… стоите уже рядом, темно, монахи поют – разве так трудно протянуть руку? Вот то-то – это тебе не с сапожниками.
Послушав, мы продолжили спуск. Снизу из дурдома доносились то и дело тихие вопли.
Мыша охуевал. Всегда спокойный и повышенно доброжелательный ушуист оказался способным залупаться, как кисейная барышня. Когда я в детстве слышал от родителей это устаревшее сейчас выражение, мне слышалось «кисельная» (я и не думал тогда, что может быть такое слово: «кисейная»), и я представлял себе эту барышню желеобразной медузой. Поскольку меня этими словами обычно упрекали, я запальчиво огрызался, что нет, я котлетный.
Конечно, вполне возможно, что он действительно заебался сидеть тут, как дурак, и ждать. Уже стемнело, а мы так и не расположились нигде на ночлег. Почему мы с Олей не думаем о других?
Но мне всё же казалось, что его очень интересует, чем это мы с Олей наедине занимались. Он всё приглядывался и никак не мог обнаружить признаков произошедшего сближения. И несколько успокоился, хотя и продолжал оставаться недовольным, поскольку в итоге ведь всё равно так и неясно.
Мишельки вон тоже дожидались, а нисколько не разнервничались. Они тоже заметили, что ничего у нас с Олей не произошло, и были разочарованы и удивлены. Я думаю, уж не специально ли Мишелька увёл от нас куда-то Мышу? Дело ведь тонкое.
А ещё я думаю – может, просто Сева с Борей дали Мыше задание охранять от меня Олю? То есть вообще-то главный там Сева, мозговой центр. Трое детей, и чем их кормить, если «Титаник» встанет в док из-за того, что Оля тоже захочет испытать счастье материнства? Или в крымском монастыре останется.
В кромешном мраке не видно было ничего, кроме кусочка дороги, освещаемого фарами. Я думал, что из Старого Города дорога одна, но наткнулся на развилку и свернул не туда, когда понял, пришлось возвращаться. Мыша говорил, что всё это потому, что мы с Олей загулялись, я тоже занервничал – и сразу попался мусорам. Останавливаюсь перед выездом на трассу, мигаю левым поворотом, а слева останавливается ещё какая-то машина, потом оказалось, что это мусора, заметили мою небрежность в манёвре и решили воспользоваться, ждут, что же я буду делать. Поворачивать-то налево надо из левой полосы. Но какие там полосы – дорога узкая и безо всякой разметки. Всё равно – надо останавливаться левее, уместились же мы слева от тебя. Но справа меня тоже вполне можно было объехать. Это мы уже потом так объяснялись. А пока что в густом мраке я и не заметил, что это мусора, машина и машина. Загорается зелёный, они стоят на месте, я подождал немного, но зелёный-то скоро погаснет, у нас ведь не главная дорога, пока снова дождёшься, я взял и поехал – может, у них что-то случилось и они тронутся не могут. Они тут же догоняют – ты нас подрезал.
В общем, опять попали. Что в детстве меня гопнички из спецшколы тормозили: «Мелочь есть? А ну попрыгай», что в полной до предела зрелости. Тут ведь не денег жалко, а стыдно и противно, что опустили.
Едем по трассе. Где-то нужно сворачивать и искать ночлег. А где? Вот был поворот налево, но проскочили. Снижаю скорость, следующего нет довольно долго. Наконец – вот. Едем-едем, надо ж хоть лесок какой-нибудь, хоть кущу, а как назло нет ничего похожего, сверху голые склоны, внизу сады. Останавливаемся, выходим в чёрную пахучую пустоту – глинистая обочина и дальше склон с редкими кустиками, за поворотом горы лают собаки, в долине линии чёрных тополей.
Едем дальше. В деревне решаем свернуть направо, чтоб не уехать слишком далеко от трассы. А потом снова налево сворачивали и через рельсы какие-то переезжали. Вообще-то повороты эти очень условны, потому что все дороги кривые. Я так до сих пор и не знаю, куда нас тогда занесло – может, мы вообще выехали в иное измерение? Поменяли Отражение, как герои «Хроник Амбера» Желязны. Проезжаем деревеньки, на улицах никого, у кого можно было бы спросить, где хоть Мангуп. Наконец группа деревьев. Опять идём на разведку – деревья окружают квадратный ставок, на довольно подробной Славиковской карте нет ничего похожего. От ставка тянет сыростью, за нас принимаются комары.
Едем снова, уже решили останавливаться в любом месте, не на дороге же. Наконец вбок уходит грунтовка, сворачиваем и, отъехав метров 300, располагаемся – какая уж разница, где до утра перекантоваться? Все уже на взводе, я тоже ворчу, что предлагал же ехать к морю. Поскольку «на взводе» – означает: укоризна водителю.
Утром мы увидели, что трудно было найти более неудачное место для ночёвки. Утром мы увидели себя попавшими в нереальный пейзаж фантастического фильма про мир, пренебрегавший экологией. По полю раскиданы таинственные огромные железяки, останки непонятных сооружений, другая планета. Зловеще гудит высоковольтная линия, прямо рядом с нами по ней несутся могучие джинны, опасные, как кобры. Всюду кучи навоза (это я ещё ночью заметил). И всю ночь свет от огромной теплицы, звёзд почти и не видно.
Я заявил, что буду спать в машине, Оля почему-то уговаривала меня расположиться со всеми вместе, но я был твёрд. Она даже подошла и тихонько, очень проникновенно и даже (не показалось ли мне?) ласково спросила: «Ну ты что, обиделся?». Ага! Почувствовала наконец, как я у ней всегда во всём виноват, как ни стараюсь, вон из кожи и на цырлах.
Я уверил её, что нет, сделав при этом вид, что да, обиделся. Вид я такой сделал для профилактики, а на самом деле не хотелось снова определяться, кто где спит, опять эти замороки, а я всё же с бодуна.
Утром ребят разбудило идущее прямо по ним стадо коров.
8. Совсем как живой
Проснувшись, я устроил своё обычное омерзительное шоу «утренний чай».
Я не знаю, что за хуйня одолевает меня по утрам. Поэтически можно вслед за Олей сказать – бесы. Материалистически можно объяснить дефицитом никотина и танина (или что у них там в чае содержится?). Можно и по народной мудрости обобщить: если бы я вечером поцеловался (хотя бы) с Олей, утром у меня было бы совсем другое настроение.
Психиатры называют это психопатией. Даже от армии меня освободили.
Факт тот, что действительно у меня по утрам бывает (в большей или меньшей степени, иногда в чрезмерной), что я с трудом управляю собой, и ничего не стоит сбить меня с этого контроля. Бесы, или как ни назови эту не имеющую отношения к тому, что мне хотелось бы считать своим «я», силу, так и подмывают меня совершить что-либо сугубо панковское, чтобы шокировать зрителей, а бывает, что я и безо всякой аудитории шокирую самого себя, как один сиамский близнец другого.
Кстати, участники чёрной мессы – самые что ни на есть панки. Что жертвоприношение младенцев, что целование мастера Леонардо под вонючий хвост – что это, как не отъявленный панк? Алис Купер, нигилисты, футуристы, Маяковский. Юмористы, Лаэртские.
Да нет, ничего шокирующего я не совершал. Как бывает иногда поутру, это стоило мне усилий, но я совершенно спокойно и по возможности не вызывающе собрал щепочек, нашёл несколько подходящих камней, установил на них чайник и стал вызывать пламя.
Но общее впечатление, думаю, было давящим – происходило оно из того, что было выше моих сил. Молчание, выражение лица, избегающий встречи недобрый взгляд. Во всём недовольство и упрёк, причём настолько сильные, что даже страшно с таким ебанутым связываться. Скажешь ему что-нибудь успокаивающее, а он возьмёт да и даст вдруг чайником по голове.
Когда я не молчал, я бормотал под нос: мол, даже на тюрьмушке и то находят силы чайку запарить. Хорошо, если на хате есть машинка, тогда обнажают контакты, идущие к единственной лампочке, и один шнырь падает на фазу двумя проводами, а другой держит банку. А если не удалось разжиться у баландёров железными пластинками для изготовления машинки, тогда кипятят воду рубашкой: с кого-то её снимают, разрывают на полоски, и тогда один держит горящую свёрнутую в трубку полоску, а второй держит чифирбак, обычно алюминиевую кружку с обмотанной шпагатом ручкой. Нет чая – заваривают жжёнку из сахара, нет глюкозы – кипятят аспирин.
А уж на воле – и не запарить чайку?… Остальное выражается гримасами и вздохами.
Бедные! Никто из них не решился преломить со мною мой чаёк. Допустим, Оля с Мышей – понятно, но Мишельки – они-то что ж? А ото ж.
Вообще-то получалось, что я ещё и пользуюсь своим положением водителя Кобылы – без меня никуда они двинуться не могут и вынуждены дожидаться, пока я удовлетворю свои капризы.
Но такие ли уж капризы-то? Ну почему бы благородным донам не выпить с утра чаю? Легко ведь. Меня колбасит – ладно, но вы-то что ж? Взяли бы и разрядили обстановку. Всем вместе проснуться и вместе выпить чаю – вполне естественно. Нет, на принцип идут – мы и без чая можем обходиться. Нам твой чай в хуй не упёрся.
Зато сам я, как только сделал глоток, а потом затяжку, такой преисполнился благодарности! Сразу проявилось, какое кругом прекрасное летнее крымское утро. Остальные этого, похоже, в упор не видели.
Ну вы же не хотите, чтобы вас вёз шизофреник, который так и ищет, как бы самому себя обломить? И я хоть знаю, что сделать, чтобы привести себя в позитивное расположение духа, а пассажиры – так поголовно и остались в плохом, да ещё как бы получается, что это я всем с утра настроение своими задвигами испортил.
Волшебный поворот ключом – и снова набегают горы и долины, прибежища божьих коровок и эльфов.
Мы выбирались из иного измерения, меняя Отражение за Отражением. Всё те же привычные крымские утёсы, где одинокий воин, где сомкнутая цепь, и всё больше ощущение смутного дежавю, и вдруг неожиданно – знакомая дорога, а вот и Красный Мак! Теперь до Мангупа рукой подать.
Под самым Мангупом загороженный плотиной ставок. Вода в нём обычно холодная, родниковая, но несмотря на это довольно грязная на вид. Мы в нём обычно купаемся, пройдя
Оля тоже захотела искупаться. Ей, пожалуй, с её уральским детством такие озерца ближе и роднее пугающего своей необъятностью моря. Я, конечно, тоже полез – пока ступаешь по жидкоглинистому дну, довольно противно, зато потом плыть вслед за Олей, уральской Олесей, среди кувшинок – очень романтично, после такого можно прикрыть Олю своим телом, когда в неё будет стрелять сторож. Кстати, упоминаемую в клипе грань «между нагим и одетым» Оля «ведала» – опять нарядилась в понравившийся мне купальник.
После купания она подобрела, стала смотреть по сторонам, а то перед этим едем среди сказочных пейзажей, а она уткнулась в найденную у меня дома довольно беспонтовую книжку Сартра («Слова») и ничего видеть кругом не желает.
Машину я решил поставить в Терновке и подниматься по западному склону. На это у меня были свои соображения.
Когда-то Мангуп был вольным поселением хиппующей молодёжи со всей страны. Чуфут-Кале, находящийся вблизи от города, ещё в советское время реставрировали и стали показывать туристам. Мангуп гораздо более неприступен. Из долины на него есть дорога, но такая, что джип ещё сможет её пройти, а туристский автобус – никак. А подъём по тропе пешком не всякий выдержит.
Надо всё же описать, что представляет из себя Мангуп, для тех, кто там не бывал. Кто знает – может пропустить.
Это характерная крымская гора, формой напоминающая огромную дюну: пологий подъём с одной стороны и вертикальный обрыв с остальных. Наверху горизонтальное плато. Мангуп сравнивают с четырёхпалой ладонью. Каждый палец (или, по-другому, мыс) имеет народное, то есть неизвестно кем, но, судя по всему, недавно придуманное название: Дырявый, Ветров, Караимский, Сосновый. Когда Мангуп был крепостью, достаточно было перегородить ущелья между пальцами (остатки этих стен сохранились), а со всех остальных сторон плато неприступно. Между Сосновым и Караимским пальцами идёт Женская тропа, названная так потому, что проходит мимо Женского монастыря и Женского источника, она самая пологая. Мужская тропа между Караимским и мысом Ветров более крутая, она приводит к Мужскому источнику. Последний поворот серпантина дороги огибает подножие Дырявого пальца. Мужской монастырь расположен у подножия западного обрыва (пальцы направлены на восток). Недалеко от него в обрыве есть щель, по которой тоже можно вскарабкаться на плато. Этот ход называется Мышеловка, потому что в щели застрял огромный валун, под которым нужно пролезать, удивляясь, на чём он вообще держится.
Когда поднимаешься на плато, возникает особое ощущение оторванности от мира – ясно, что случайный прохожий сюда не забредёт. Стоишь на краю обрыва – где-то далеко деревни, поля, дороги, а ты надо всем этим на доисторической территории, на которой люди устроили своё жилище ещё три тысячи лет назад. Иной, отрезанный, затерянный мир, земля Санникова.
В годы перестройки стало иначе. Прямо у начала Женской тропы возвернувшиеся татары стремительно возвели посёлок. Мангупские бродяги стали их врагами, ворующими у них коноплю. Гопники из близлежащих деревень стали играть в рэкетиров, вымогающих налог за нахождение на их землях.
Откуда ни возьмись объявились лесники. Ещё в 93-м мы открыто стояли на мысу Ветров. Когда мы расположились на том же месте в 94-м, вечером к нашему костру на мотоцикле подъехали лесники с ружьём, мы слышали рёв и видели фары, но ещё не слыхали ни о каких лесниках, думали местные, сочувствующие мангупцам (такое тоже бывает), а сидевшие у нашего костра хипаны из Киева уже всё знали, но нас не предупредили, а просто спрятались в свою пещеру (с прискорбием вынужден констатировать при всей моей любви к тусовщикам, что такой поступок чрезвычайно характерен... что зэки, что тусовщики живут по общим законам аутсайдеров). Пришлось нам тогда откупаться, а утром мы перебрались в неприступные для мотоцикла гроты западного склона. Пока мы там были, лесники приезжали ещё раз, мы слышали, как они стреляли из двустволки по хипанам, отмечающим бёсдник Ринго (не Стар, а именитый – даже грот есть Рингушник - мангупский старожил, родом из Зелёнки).
В прошлом году лесники тормознули нас с рюкзаками прямо в татарской деревне и конкретно развели – не просто денег взяли, а ещё всучили квитанции, чтоб мы показывали их, если наверху попадутся ещё какие-нибудь проверяющие. Я, доверчивый, потом сохранял их, прям как паспорт.
Поэтому я решил подниматься на этот раз сразу к западным гротам, чтоб ни на кого больше не напороться – мнимые лесники ждут посетителей с востока, со стороны Бахчисарая.
В Терновке мы остановились у ворот, возле которых стояла банка со вставленной белой бумажкой, означающая, что тут продают молоко. Кроме молока, хозяйка продавала сливки – и от того, и от другого Оля пришла в неописуемый восторг. Мыша сбегал за хлебом, и мы уселись завтракать.
Обрадованная нежданными покупателями хозяйка не возражала, чтоб наша машина постояла возле её дома пару дней. Даже и придумывать не пришлось, куда девать нашу Кобылу.
И мы двинулись по дороге обратно. На мне суперрюкзак с ватными одеялами и продуктами. У Мишельки рюкзак тоже внушительный на вид, но полегче, я попробовал. У прочих маленькие рюкзачки. Гитару Оли почёл за честь нести я.
Оля – худющие длинные ноги, короткие чёрные шорты с бахромой и блестящими заклёпками. На Мыше джинсы, оборванные у колен, тельняшка и моя застиранная до белизны джинсовая жилетка, лет десять назад мне подарил её тоже Миша и тоже с длинными светлыми волосами, впрочем, Мышу, я уже говорил, Оля дебильно обкорнала. Элеонора тоже в джинсовых шортах, но не оборванных, а фабрично подрубленных и вообще мажорских. На одном Мишельке длинные свободные штаны, на вид очень типичные для товарища с Востока.
После машины путь пешком обратно показался долгим, да ещё и Мангуп поводил нас, как он обычно поступает с новичками – довольно долго мы шли не по той дороге, приняв за Мангуп совсем другую гору, а потом возвращались. А когда началось восхождение по тропе, мне и самому пришлось нелегко. Рюкзак удобнее нести, держась руками за лямки и подтягивая его к спине – меньше устают плечи. А у меня руки были заняты гитарой, к тому же стал накрапывать дождик, я обмотал гитару целлофаном, из которого она так и норовила выскользнуть.
Я обычно, когда поднимаюсь куда-нибудь с рюкзаком, смотрю на свои прекрасные ноги с узкими поджарыми лодыжками и рельефными греческими икрами (у большинства, если есть икры, то наплывающие на лодыжки, или наоборот – худые лодыжки, но и выше не толще) и говорю: ножки мои, ноженьки, какие вы чудесные, как замечательно вы мне служите, как я вас люблю. И ноги в ответ пружинят, надёжно ступают на камни, безотказно тянут вперёд и выше.
Ещё я, бывает, бормочу про себя песню, которую пел в походах мой тренер: «День-ночь, день-ночь мы идём по Африке… и только пыль, пыль, пыль из-под шагающих сапог…» – с возрастом я узнал, что это не просто народно-туристская песня: эти слова я нашёл у Киплинга. Мой тренер Гребенников (почти Гребенщиков) был моим первым по жизни Учителем – я всегда привожу его в пример в моей теории о том, что вовсе не обязательно отцам воспитывать детей, и лучше бы они вообще не брались за это, если не являются профессионалами, вернее – если не имеют такого призвания (одно редко совпадает с другим, к сожалению). Мой папа воспитанием не заморачивался и правильно делал! Всё, что мне нужно, я узнавал у писателей, а когда пришло время, сам собою нашёлся тренер.
Прошлым летом я затащил на Мангуп на плечах кроме рюкзака разнывшегося Мишелькиного Гийку (чё б не похвастаться?). А вот когда я поднимался с Ришей и Одуваном, я никак не мог за ними поспеть, останавливался на последнем издыхании, и они меня дожидались. Они, правда, были вовсе без рюкзаков, но всё равно я тогда с ужасом осознавал свой надвигающийся возраст.
Расположиться я хотел в гроте МК-48 (на Мангупе все гроты пронумерованы), в котором мы вписывались с Ришей и Одуваном. В него нужно карабкаться с окаймляющей подножие тропы по вырубленной в камне лестнице, случайно не забредёшь, нужно специально лезть. Ещё одно его преимущество – есть родничок, слишком маленький, чтоб пить из него, но хоть умыться, а два питьевых источника есть в соседнем гроте. В другие жилые стоянки воду приходится таскать.
Грот оказался никем не занят. Меня только огорчило, что какие-то пидарасы спилили дерево, которое росло у входа. Как таких на Мангуп заносит? Спустись на пять метров ниже – полно и валежника, и живых деревьев. На этом дереве когда-то сидела Одуван, озирая долину, пока мы с Ришей под деревом неистово ласкали друг друга. Одуван решалась присоединиться к нам только по ночам: «если тушат свет, значит грех – так грех».
Можно выражаться иронически – места боевой славы, можно по-индейски – места силы (ирония не такая явная). Можно посчитать пошлостью – водить новую избранницу по тем же точкам, где бывал счастлив с прежней, а можно расценить это как магическое прошивание судеб знамением среди случайностей. Не знаю, мне кажется, что одно дело – когда избранницы одна за другой толстые, выжившие из ума курицы, интересные одному тебе доступностью своей дырки, и совсем другое – когда они могут увлечь многих своей способностью сдвигать крышу посредством, например, пения. Тогда через эту точку они могут получить нечто, взаимно им нужное, и я лишь посредник, а нужно это всем тем, кто их слушает, и что-то от этого меняется к лучшему для всех. Фантазирую, а так, конечно, я согласен, что и у дур есть свои кайфушки, да и неизвестно ещё, кто дуры, да и не об уме речь – достаточно поэтичный индеец умеет в любой квашне разглядеть Женственную Божественность.
Среди прочих своих историй я рассказывал Оле о том, как однажды чуть не нанялся ухаживать за пингвинихой.
Инка предложила мне подзаработать. Какой-то из её знакомых держит дома пингвиниху. У Инки бывают самые неожиданные знакомые – возможно, просто знакомые её знакомых, а она нагоняет таинственности, меня заинтриговывает. Этот её знакомый работал на станции в Антарктиде. Коллектив у них был исключительно мужской, жили они там уже долго, и как-то раз один из них додумался выебать пингвиниху. Оказывается, в отличие от некоторых других животных, у пингвинов половая активность появляется периодически только у самцов, самки же хотят ебаться всегда, лишь бы было с кем. Наверно, из-за суровых условий пингвинихи всегда должны быть готовы не упустить ни малейшего проблеска новой жизни. Словом, с тех пор кто бы из экипажа станции ни вылез наружу – пингвинихи бросались за ним толпой, как поклонницы за мастером Леонардо ди Каприо. Просто не давали работать! Со временем остальные полярники тоже прикололись их поёбывать, но пингвиних это не успокоило, а только распалило ещё больше. Под конец мужики уже просто боялись выходить из станции и проклинали половые проблемы вообще и свою неустойчивость в частности.
Один лишь Инкин знакомый вошёл во вкус настолько, что взял самую лучшую пингвиниху с собой в Москву, ей повезло больше, чем героине песни «Миленький ты мой, возьми меня с собой». И с тех пор он живёт с ней и уверяет, что проблем гораздо меньше, чем с любой бабой. Прокормить несложно – рыбой, а проблема, собственно, только одна – что срёт, где попало, и перевоспитать уже невозможно.
Сейчас этот полярник снова улетал в экспедицию и искал кого-нибудь, согласного полгода присматривать за пингвинихой. Жить в его квартире, плюс питание, плюс триста дореформенных рублей в месяц.
Звучало очень соблазнительно. Правда, предупреждала Инка, она очень общительная, не может без общества, за этим парнем таскается по пятам по всей квартире, а ночью ты можешь проснуться от того, что она пристроилась с тобой под одеялом и тычется в тебя утиным рылом. Представляешь: просыпаешься, а перед тобой такое рыло – от неожиданности можно и потенцию навсегда потерять.
- А ревновать этот чувак не будет? – беспокоился я.
К сожалению, так ничего из этого и не вышло. Я сомневался, потому что не хотел терять лето, не брать же пингвиниху с собою в Крым. Так и не попробовал, каков для некоторых мужчин идеал жены.
- А у тебя все твои женщины сильно отличаются от пингвиних? – скептически спросила Оля.
- Ну, уметь петь – не единственное, чем можно отличиться, - отвечал я. – Вон Елена у Лимона ничего толком не умеет, кроме как выдрючиваться, но это ж тоже уметь надо. Идеальная пингвиноподобная жена как раз таки вполне может и петь или, скажем, рисовать. Приготовить гостям пожрать, а если с кем скокетничает – сразу в репу. А вот если она и сама может мужика по кумполу сковородкой треснуть – вот тогда она уже не пингвиниха.
- В общем, садо-мазо…
- Да нет, просто что делать, если мужик из себя петуха корчит. Знаешь анекдот про цыплёнка: «Западло – мой папа петух!»… Сочинил я когда-то песню «Четвёртые петухи» про вольнолюбивую жену и ревнивого мужа… А садо-мазо, - добавил я, вспомнив, что она может иметь в виду свои расклады с Индейцем, - это вроде перца. Если у кого больной и нетренированный желудок, так конечно потом придётся поститься.
Вот так мы препирались то и дело.
- А вообще-то, - задумчиво сказала Оля, - люди своим отношением к сексу больше похожи на пингвинов, чем на млекопитающих.
- Ну это кто как, - возразил я, - я иногда чувствую себя, как и есть по гороскопу, собачками-близняшками. А ты, наверно, ощущаешь себя чайкой Джонатан Левингстон?
- Не знаю… может, царевной-лягушкой.
До вечера мы возились с обустройством, дровами, одеялами, чаем. В темноте я повёл Олю с Мышей на прогулку по ночному Мангупу.
Может, с чьей-то точки зрения я чрезмерно впечатлителен, но мне гулять по Мангупу одному и днём жутковато. Кто-то ведь высек в камне эти жилища, и теперь они смотрят их глазами.
Мы прошли по тропе под обрывом, поднялись по Мышеловке («Мыша, осторожней!») и направились в сторону Дырявого. Я хотел показать раскопанные археологами могилы с лежащими в них скелетами, но их уже закопали, уж не знаю, что сделали со скелетами. У обоих скелетов были пробиты черепа – возможно, какой-то ритуал. Фильке тогда они очень понравились, он всё просил сходить ещё на них посмотреть.
По дороге я рассказывал про Мангупского мальчика. Когда в 1475-м пидарасы турки взяли приступом Мангуп, столицу готского княжества Феодоро, они вырезали всё его неверное с их ебануто-религиозной точки зрения население. Дело не в национальности, а в религиозности – христианские испанцы были в Америке такими же пидарасами. После резни в живых остался только сын царя Феодоро, поскольку был в это время переодетым под турка лазутчиком. Этот сын решил зарезать турецкого пашу, для этого он, подобно Феодоро Трезвякову, вооружился специально заговоренным кинжалом. Но, как и в случае с Трезвяковым – куда ему, начинающему заговорщику, против опытного гипнотизёра паши? Его схватили и стали пытать – как раз в Цитадели, куда мы сейчас направляемся. Дело в том, что несметные сокровища княжества Феодоро пропали неведомо куда, а паша очень рассчитывал на них, чтоб заплатить своим боевикам. Мангупский мальчик оказался настоящим партизаном. Паша и сам понимал, что откуда такому щеглу знать такие тайны, просто хотел сорвать на ком-нибудь досаду, да и вообще неплохой повод лишний раз устроить укрепляющий дух войска хэппенинг. В оконцовке мальчика сбросили в каменный безводный колодец, его я покажу завтра, когда светло будет. А сокровища Феодоро так пока и не найдены – говорят, что под Мангупом есть сеть пещер, которые готы успели затопить, выпустив подземное искусственное озеро.
И с тех пор Мангупский мальчик иногда тут засвечивается. Кое-кто говорит, что тот, кто его увидел, потом бесследно исчезает, но это они путают с другой крымской историей, про Чёрного Альпиниста. На самом деле Мангупский мальчик строит козни исключительно пидарасам – теоретически может и в пропасть столкнуть, только я о таком не слыхал, а обычно он просто пиздит тушёнку и сгущёнку у тех, кто ими по уши затарен, и отдаёт тем, у кого их нет.
Кстати, на Мангупе есть выражение «думать плохо не надо», дословно так. Потому что как подумаешь плохо, так как раз споткнёшься или на ветку напорешься – такие тут места.
К сожалению, моим пассажирам совсем не было страшно. Мы классно погуляли, набрали воды в Мужском источнике, посидели на краю пропасти на Дырявом, но когда не страшно, как-то это не так интересно.
На обратном пути я вспомнил ещё одно мангупское поверье – Мангупский мальчик успокоится и вознесётся, куда полагается, после того, как какая-нибудь герла забеременеет на Мангупе, а потом ещё и родит там же. Беременеть-то тут многие пытались, но рожать пока никто не решался.
Когда мы расположились спать, Оля оказалась лежащей между Мышей и мною. Лежать было жёстко и холодно, потому что очень сыро. Я не спал, то есть как бы и спал, и не спал – ну как заснуть, если так близко Оля. Я слышал, что она тоже не спит, и начал её поглаживать – как будто бы во сне, хотя, конечно, вполне осознанно, даже с повышенным вниманием. Она, тоже как будто во сне, не противилась и даже как-то отвечала. Я начал смелеть, но тут вскочил охуевший Мыша и стал искать в рюкзаке свитер. Мы замерли, когда всё успокоилось, я начал опять – в полусне я позволил себе поверить в то, что Оля не только недосягаемая богиня, от песен которой меня уносит на небеса, но и дочь человеческая. Но Мыша был начеку – теперь ему, обычно некурящему, вдруг захотелось курить.
Всё это напоминало мне песню «Четвёртые петухи», только Коровьев тогда шутил, а Мыша нервничал на полном серьёзе. Это я описал только то, что запомнилось, а так он ещё до свитера вдруг поднимался, тоже как бы во сне, и снова укладывался, ворочался, вздыхал. В общем, я не стал с ним бороться.
На другой день, пока народ раскачивался, я высек на стене грота «ТИТАНИК и ПАССАЖИРЫ». Я знаю, что западло портить стены в таких местах. Знаю, но тока без фанатизма. Я ведь не «Оля» написал. А «Титаник» я считаю вполне сопоставимой с Мангупом величиной, и встречу их – историческим событием. Надписи на стенах мне тоже не нравятся, однако если бы я встретил тут надпись «Титаник», я бы обрадовался. Или «К.О.Т.». Это весть тем, кто врубается.
А инициалы Оли и так высечены или написаны на каждом углу, объяснил я ребятам: панковская «анархия», «А» в кружочке – как раз «А.О.».
Олю мой каламбур позабавил, а к названию «Пассажиры» она вообще прикололась, сказала, что отныне переименовывает группу в «Пассажиры». Потому что одна она капитан, а остальные музыканты никак не желают быть командой, так и норовят за пассажиров проканать.
Прям сразу в Адлере так и назовёмся. Дело в том, что Мышины родственники обещали им устроить концерты в Адлере, потому они и спешили так к 20-му числу. Денег-то мало – чтоб поехать со мной на юга, им даже пришлось перешагнуть через свои принципы и выступить вдвоём в каком-то клубе (вообще-то западло выступать перед жующей публикой).
Я тоже вызвался поехать в Адлер, и Мишелькам тоже понравилась эта идея – там уж и до Сухуми рукой подать. Оля обрадовалась – здорово, ты будешь стучать с нами на какой-нибудь перкуссии. Я сказал, что такой опыт уже имею – когда-то Боба с Шурой Политурой играли в Гурзуфе на набережной, а я постукивал камушками в пивной банке, в те времена такая банка была сувениром, купить её можно было только в валютнике.
Но репетировать по ходу я закомплексовал – испугался профессионалов, побоялся заявить себя музыкантом. Такая ссыкливая натура – неискушённой аудитории легко могу спеть и сбацать на гитаре, причём на ура. Но если в компании есть хоть один музыкант, я непреодолимо стесняюсь. Уж если они друг друга любят ругать, самого БГ ни во что не ставят, то куда уж мне?
Когда я только-только обосновался в Питере, я иногда ездил в гости к одному автору-исполнителю. Я был знаком с ним ещё до зоны, и он представлялся мне мэтром – сравнивать было особо не с кем. Больше всего меня поразили его необычайно длинные волосы, да и джинсовая куртка была у него очень классная – вот он, настоящий, о знакомстве с которыми я мечтал. Да и песни вроде ничего – Славик прислал мне на химию кассету, и я старательно их изучал.
И вот ехали мы с ним как-то раз на трамвае от метро «Купчино» к нашей общаге, он хотел договориться с Славиком об очередной сессии записи. Он относился ко мне, как старший (сейчас-то разница уже стёрлась), но тут ничего не оставалось, как разговориться. Я тогда всё ещё продолжал считать самой лучшей группой «Машину времени», но уже начал сомневаться – а не круче ли «Аквариум», его мне Славик тоже высылал на химию, а также «Облачный край», который он ошибочно называл «Заоблачный мир». В Питере я уже услышал про «Странные игры», «Зоопарк», «Кино», восходящую звезду «Алисы», но ещё не разобрался во всей полноте.
Черкасин был для меня авторитетом, я уже видел афиши с его фамилией и слышал, что он является видным деятелем питерского КСП. И вот я поинтересовался, что он думает об «Аквариуме».
Он категорически заявил, что это полное гавно, а Боря – плагиатор, все его тексты являются просто переводами, да и музыку он всю содрал. И даже внешний вид свой скопировал с Дэвида Боуи.
Я тогда поинтересовался почему-то его мнением о Розенбоме. Я тогда не очень-то разбирался в разнице, я различал только музыку, которую передают по радио, и ту, что переписывают с бобины на бобину. Мне и Северный нравился, и те, кого в народе собирательно называли «одесситы» или «эмигранты» – да даже и Черкасин мне нравился! Потому я и спросил – пускай рокенрол может быть только английским, но тогда возьмём что-нибудь поближе к тем, кем считает себя Черкасин, к бардам.
Черкасин взбух от возмущения. Барды – это святое, а Розенбом – презренный блатняк. Ведь у него на самом деле есть и бардовские песни, но он, дешёвый спекулянт, опубликовал самую низкопробную вульгарщину.
Я был в недоумении. На осознаваемом уровне я не мог не верить ему, как когда-то маме, но при этом ощутил такую некрасивость этого патлатого бородатого горбуна, что именно после этого разговора наши отношения и сошли на нет.
Кассету его, кому я ни ставил – никому не понравилось. Никому! Может, конечно, просто я такую вожу компанию? Может, тем, кто ходит в Большой театр и читает Мандальштама, и понравилось бы? Ведь какая-то своя аудитория у него была… я вообще очень плохо разбираюсь в бардах, в этих их слётах на пленэре.
Иногда я ставил Черкасина с предисловием, и тогда слушатели с трудом выносили несколько песен, а я мучался тому, как они мучаются. А иногда я ставил среди общей тусни, невзначай, по ходу, и пипл начинал беспокоиться – чё такое, откуда такой дискомфорт? а! – надо вырубить кассету, и сразу всё становится ништяк.
С тех пор мне не в кайф, когда поют по-русски, грассируя – это напоминает мне Черкасина. Ты ж артист, работай над дикцией, а не получается – пой тогда по-французски.
Днём мы опять пошли на прогулку с Олей и Мышей. Не успели дойти до Мышеловки – пошёл дождь. Мы укрылись в Мужском монастыре – как и Женский, это просто народное название (в отличие от Успенского), на самом деле – просто несколько гротов, соединённых переходами и лесенками, с полуобвалившимися стенками и довольно условными остатками религиозной символики, обильно дополненной тусовщиками.
Мыша пошёл осматривать соседние гроты, а я развёл костёр – одевшаяся легко Оля замёрзла.
Представляете? Да он просто стебался над ней! Ну как греют замёрзшую герлу? Она говорит: я замёрзла – а этот идиот разводит костёр!
А вдруг я обниму её – а тут вернётся Мыша? Ну и хуля – что он, маленький? Да ты сам как маленький – герла уже подписалась ехать с тобой на юга. Или из того, что она не бухает и ганджу не курит, ты делаешь вывод, что её уже и приобнять нельзя? Идиот, причём полный.
Это мама так меня зомбанула. Она терпеть не могла курящих девок, потому что «раз курит – значит и пьёт, а пьяная баба на передок слаба». Она повторяла мне это сотни раз, есть у неё такая манера, учительница же – снова и снова рассказывать те же притчи, с неослабевающим от раза к разу восторгом. Вот я и сделал выводы, с некурящими девками даже и не знаю, как себя вести.
Мыша действительно то появлялся, то исчезал, продолжая нести вахту «Четвёртых петухов», но что тебе до Мыши? Трус!
Да, трус. Сколько раз уже бывало, что герлы обламывали самые настойчивые мои притязания, столько уже этого негативнейшего опыта было накоплено, этого дешёвого колдовства на примитивном «дать-не дать», что мне казалось, что если и Оля возмущенно оттолкнёт меня, я этого просто не перенесу – я сразу прыгну с обрыва, другого выхода у меня просто не будет.
Я ограничивался комплиментами. Говорил, что то, что делает «Титаник» – самое бесценное из всего происходящего сейчас на Земном шаре. Вот-вот, отвечала Оля, ты бы лучше Севе это объяснил, а то он всё норовит на сторону свалить, да ещё и Борю за собой тащит. Один Мыша послушный, но уж больно ленивый.
Ещё я ввернул – безо всякой связи, но уж очень мне хотелось сказать ей о её красоте, - что многим «Титаник» нравится не только из-за музыки, но и из-за романтичной внешности Оли. Оля засмеялась: ну вот этого не надо, о внешности своей я всё сама знаю. Нет, ты красавица, с жаром уверял я. Слова!
Дождик кончился, и пришлось гулять дальше.
В пещере Телевизор жили волосатые ребята. Я поболтал с ними, как принято на Мангупе – о лесниках, о тусовках. Они спросили, в каком мы гроте, и я проболтался, что в 48-м. «Ну вот! – возмущалась Оля. – Припрутся теперь в гости!»
На плато мы издалека увидели двух бредущих навстречу герлов.
- Ещё и их пригласи, - едко сказала Оля. – Как раз две, как ты и любишь.
Я подошёл к герлам первым, а Оля с Мышей подтянулись следом – как бы они вместе, а я свободен. Но вблизи герлы мне не очень понравились. По какому-то закону в тусовщицы обычно идут самые страшненькие. И даже у симпатичных, ставших тусовщицами, лица принимают слегка дебильный вид. Но я и им сообщил на всякий случай наш адрес.
К вечеру низкие грозовые тучи ушли на юг и застряли в горах, отделяющих нас от моря. Вода оседлала выступы земли, и между ними то и дело проскакивал огонь. Впрочем, наблюдать это можно было, только выйдя по какой-нибудь нужде из пещеры, мы же умиротворённо валялись на одеялах, опустошив закопченный котелок, и попивали чай, а в амбразуру виден был только роскошный крымский закат со всеми оттенками красного (жёлтого, голубого, розового) на разнородных облаках, близко плывущих и на заднем фоне веером рассыпавшихся.
Оля разглядывала высеченную мною утром надпись.
- А у тебя дома на заборе тоже ты писал, судя по твоим привычкам?
- А что?
- И для своих кощунств ты не мог найти лучшего места, чем стена, отделяющая тебя от христианства?
- Так там больше и негде писать. У других моих соседей нет средств на такие капитальные заборы. Кстати, знаешь, когда они его возвели? За пару месяцев до путча, знамение им было. А вообще всю мою жизнь там был обычный деревянный, а на улицу у них смотрел очень красивый такой лепной, и каждый год они раскрашивали эти кружева синим и жёлтым. А теперь крепость, и не только духа – далеки они от народа.
- Наверно, твоих пьяных криков наслушались и думают: от такого народа лучше держаться подальше.
- А что ты называешь кощунством? Просто «кайф» пишется короче, чем «благодать».
- Да уж ненамного, а вот звучит… Ты ж поэтом себя считаешь? Должен слышать.
- Ну в общем да… Ну да, звучит иначе, потому что я хочу выразить вечную мысль новым языком, чтоб тому же народу было понятней, тому, кто ко мне в гости приходит. Я специально ставлю рядом такие слова, бог и кайф, чтоб внимание к ним привлечь.
- Ну да, и к себе заодно.
- Смотря что называть собой. А вообще да, это ж я писал, когда у меня ехала крыша, и я врубился тогда, что я и есть бог.
- Ну вот, и ты ещё говоришь, что никакого кощунства.
- Нет, ты обязательно должна прочитать «Чужого в стране чужих». Я тогда как раз начитался.
- Не знаю, стану ли я читать, если там такие вещи написаны.
- Вот затем я и пишу на заборе – хочешь, не хочешь, а прочитаешь. А когда сама врубишься в то же самое, вспомнишь.
- Что бог – это кайф?
- Нет, что бог это ты. Может, как кайфанёшь, так разом обретёшь и любовь, и бога. Или так полюбишь, что станешь богом, и это кайф. Да ты и бываешь им, когда поёшь, я ж вижу, и не я один. А вот когда со мною споришь, сразу видно, что это Оля.
- Когда пою, тоже.
- Нет, тогда ты ищешь кого-то ещё. Во все времена находились люди, искавшие того же. Сейчас это хипаки, а раньше были ваганты, розенкрейцеры, суфии… (стал излагать я Мильёшкину теорию).
- Видела я этих хипаков. Только и ищут, чтоб кайфануть на халяву. И некоторые воображают при этом, что это имеет отношение к богу.
- Ну и всегда так было. В притчах тех же суфиев…
- Что это за суфии, о которых ты всё время говоришь?
- Помнишь, мы смотрели «Жемчужину Нила»? – вмешался Мыша. – Они там факелами жонглировали и по углям босиком бегали. И дэ Вито заставили по углям бегать, помнишь?
- А… так это ты про них? Ну у тебя и сравнения. Там действительно настоящие воины были, не то что хипаны. А ты вот никогда ещё не пробовал по углям бегать?
Вообще-то на такие трюки меня ничего не стоит спровоцировать по пьянке. И настолько я был опьянён Олей, что бросил: «Легко», вскочил и направился к костру.
Костёр ещё тлел. Он был не таким уж большим, но для двух ступней места вполне хватало.
Я даже и не сомневался. Подошва у меня, как у носорога, я ведь постоянно летом хожу босиком, а зимой раньше бегал по снегу (последнее время всё некогда…). Так что я сразу, пока не начались ахи и охи, ступил в очаг одной ногой, сразу переступил на другую и выскочил.
- Легко, - торжествующе оглянулся я на Олю и повторил номер, только на этот раз потоптался подольше. После чего почувствовал, что ноги всё-таки жжёт, но ничего, к утру пройдёт всяко.
Наверно, уж слишком явное торжество было на моём фэйсе – Оля, пристально на меня глядя, поднялась со своего ложа и тоже встала на угли!
Мишельки только рот разинули. Меня-то они знали, но Оля! – она поразила их этим больше, чем всеми своими песнями.
- Здорово у вас получается, - сказал Мыша, - а ну-ка дайте, я тоже попробую.
Никак не желал оставлять нас тет-а-тет в наших игрищах!
Попрыгал – ну так ушуист же. Мы с Олей даже и внимания особо не обратили.
Герлы так и не пришли к нам вечером, испугались Олю – она лишь глянула на них, и они сразу поняли, что ловить им нечего. А вот ребята явились, и недовольная Оля устроила им антишоу.
Ребята пришли вчетвером и неудобно устроились на ссыпавшихся с потолка грота полосках известняка. Как Мишелька ни предлагал им садиться поближе, они видели, что Оля их напрочь игнорирует. Угостили мы их чисто по-мангупски – отваром из собранных на плато трав. Если начинаешь выкатывать сгущёнку и прочие разносолы, сразу видно, что ты случайно оказавшийся здесь новичок, и сам Джа велел крутить тебя на полную катушку. Между прочим, и на тюрьмушке точно так же.
Оля устроила с Мышей репетицию самых занудных своих народных песен. Именно репетицию – с рабочими базарами, с повторами одного и того же. Ни одной песни не спела так, чтобы зрители сказали: да… вот это ништяк.
Ребята поняли наконец, что они на хуй тут никому не нужны и засобирались домой. Я напоследок крикнул им, чтобы слушали группу «Титаник», за что немедленно был отчитан Олей.
- Да я просто о рекламе вашей забочусь, - оправдывался я. – Ты не представляешь, как из уст в уста будет передаваться легенда, что сам «Титаник» здесь был.
- Не надо мне никакой рекламы, - отрезала Оля. – И вообще я очень прошу тебя никому в дороге не рассказывать, кто мы такие.
А кто, собственно? Сейчас я уже знаю, что никто и понятия не имеет о существовании «Титаника». Мне казалось (я и сейчас так думаю, но мало кто разделяет мои вкусы, разве что один Парфён), что «Титаник» играют самую волшебную музыку во вселенной – и как же могут о них не знать? А оказалось, такой закон – да я ведь и раньше всегда это знал. Те же суфии – кто о них знает?..
После ухода гостей Оля перестала петь народные песни.
Она уже не раз рассказывала мне о своей дружбе с Умкой. Вообще-то она «без подруг, чтоб быть поближе к богу» – я сказал ей, что не вижу тут никакой связи. У большинства женщин нет подруг, потому что не могут поделить мужиков, но при чём тут бог? Не исключено, что вообще могут дружить только скрытые лесбушки. «А среди мужиков – скрытые гомики?» – возражает Оля.
И раз пришлось к слову, поёт мне Умкиного «Гомосексуалиста». Я слышал эту песню впервые и пришёл в восторг, особенно мне понравилась строчка «ты совсем, как живой, только ты голубой».
Когда располагались спать, Мыша решительно улёгся между мною и Олей. Ночью я проснулся от холода – не к Мыше же прижиматься. Я встал покурить, потом подумал, сидя на скале у входа в пещеру и глядя на луну в облаках, и заколотил последнюю пятульку. А потом подумал ещё и спустился в оказавшиеся по такому случаю нестрашными мангупские заросли. И сдрочил не в кипиш дело.
А утром стал агитировать народ перемещаться к морю. Якобы мне приснилось, что две ночи наша Кобыла простояла нормально, а на третью как бы не увели.
Все хотели зависать дальше. Я тогда сказал: ну ладно, я тогда съезжу в Симфик, разберусь пока, что там с крестовиной, а потом заеду за вами, когда вам надоест, вы только скажите хоть примерно, когда.
Я на самом деле уже представил себе, как это будет, и захотел это сделать. Им тут интересно, а я все эти дела знаю, лучше потусуюсь пару дней на свободе, хоть отдохну. Буду валяться у себя в огороде и смотреть на небо.
Потому что – хуля тут ловить? Дождь постоянно, холодно, одеяла сырые. Вдруг осень среди лета. А море, где жара и сухо, совсем рядом.
Без меня пассажиры оставаться не хотели. Каждой твари по паре, а я единственное связывающее их звено. С точки зрения Мишелек, во всяком случае Элеоноры (а куда Мишелька денется?), Оля слишком много из себя ставит, корчит королеву, а на самом деле – не больно умная тётка с Урала. Не уверен, но Оле вполне могло показаться, что Мишельки – просто хачик с верноподданной пингвинихой. Без меня в одной пещере им было бы трудно.
Мишельки ушли прощаться с Мангупом. И так надолго! Наверно, просто пошли поебаться, но зачем так далеко? Я так распсиховался, что даже пошёл их искать, хотя и знаю прекрасно, что на Мангупе это бесполезно, но знамения всякие бывают. Не нашёл, зато встретил сено и, увязав, сколько мог, в рубашку, притащил на стоянку – а вдруг всё же придётся снова здесь ночевать? Или следующей смене пригодится.
Наконец Мишельки объявились. Так теперь Оля с Мышей как начали собираться… Мы уже были внизу, а они только начали спуск.
9. Мне не под силу, милая
С машиной всё было в порядке. Тётка, возле ворот которой мы оставили свою Кобылу, обрадованно запричитала: ну наконец-то, я тут уже две ночи не сплю, слушаю, как там машина, уже всех соседей предупредила, что это ко мне приехали, уже переживала, не случилось ли чего с вами.
Мы снова купили у неё молока и полюбившихся Оле сливок.
И поехали по неведомой ещё мне дороге.
Узенький серпантин, напоминающий о хрущёвских временах, когда по горным кавказско-крымским дорогам (советское время – единственное, когда на Кавказе не воевали горячие горцы) ездили только «Москвичи» и «Волги» (благословенные времена) вывел нас на полноценную трассу для современных паханов, пересевших с «ЗИЛ»ов на “BMW”.
Опять слушали «Сплин», Оля хотела разобраться. Нашли, что не все песни такие уж кайфовые. Заправились. Успешно миновали пост ДАЙ.
Хотели было свернуть в Ласпи – раз уж оказались здесь, так почему бы не глянуть? В начале спускающегося с трассы серпантина скопилась очередь машин. Я пошёл посмотреть, в чём дело. Оказалось, несколько накачанных быков собирают плату за въезд, причём не с машины, а с каждого пассажира. Я вернулся, предложил – может, все, кроме меня, доберутся как-нибудь лесом? Но в итоге решили ехать дальше – западло платить за неизвестно ещё что. К тому же Оля надеется, что в Симеиз уже приехала собиравшаяся туда Умка. Поэтому в Форос заезжать тоже не стали, Симеиз так Симеиз, к тому же я в Форосе был, и мне он не понравился, Симеиз всяко круче.
К тому же пора было уже думать о ночлеге.
Спустились с трассы в Симеиз, проехали его насквозь, обогнули Кошку, дорога извилисто спустилась к самому берегу Голубого залива. Залив действительно Голубой, пояснял я Оле, потому что здесь собираются голубые со всей страны. В 93-м мы добрались сюда уже ночью, пробрались через завалы камней на мысе под Кошкой и заночевали на самом большом камне. А утром, проснувшись, обнаружили, что кругом нас расположились явно голубые парочки, похоже, мы заняли их главный камень. «Саша, скушай персик» – «Не ха-ачу…» – «Ну скушай, ну Сашенька». Все исключительно мажорного вида, ухоженные и холёные, посещающие спортзалы и сауны. Хоть голубые и борются за какие-то там якобы свои права, на самом деле – обычно голубыми становятся от хорошей жизни, и наоборот, стать голубым – часто путь к обеспеченности, «сдайся, враг, умри и ляг».
По этому поводу я вспомнил, как ещё во времена застоя я задумывался – а что бы значили эти таинственные партийные бани? Уж не то ли это место, где кандидата на повышение метят в шоколадное пятнышко? И на каждой из ступеней иерархии партийный босс чпокает в попарик тех, кто ниже, и подворачивает тем, кто выше. Вот это спайка! Каждый подчинённый – жена, которой можно и по садо-мазо плёточкой навалять. Связанные одной тайной, Третий Рим, четвёртый петушатник. А традиция пошла от партийцев каторжан, чисто камерно-тюремная.
- А сам-то ты – не прикололся в зоне по этим делам? – поинтересовалась Оля.
- Да как-то не успел. Это ж нужно блатным быть, авторитетом, или же платить, менять на свой чай с глюкозой. Уж легче бесплатно… А про онаниста у Умки есть песня?
Дорога стала опять уходить от моря вверх, и мы решили вернуться. Я хочу обратить внимание, как долго мы выбирали место, как перед этим не тормознулись в Ласпи – и вот, когда мы свернули с дороги на понравившуюся нам лужайку, уже третью осматриваемую по дороге, и решили здесь и расположиться, и стали уже распаковываться – откуда-то сверху послышалась гитара и пронзительно скрежещущий голос.
- Это же Умка! – воскликнула Оля и ломанулась вверх прямо через лес. Мыша последовал за ней.
А мы стали располагаться, стелить одеяла. Мыша вскоре вернулся и позвал меня посмотреть на Умку.
Выдержка из индеепендент «Гласа», посвящённого
5-му рэгги фесту по случаю бёсдника Боба Марли 8 февраля 97
…И наконец гвоздь программы – «Титаник». Худая измученная Ольга, сразу попросила не курить и no drugs, пожалуйста. Тётя Оля. Новый ещё один гитарист (оказалось, он просто попросился тоже поиграть и всех задавил своей слишком громкой гитарой, хрен знает кто сидел за пультом). Как-то нехотя Оля спела «Женщину», ещё несколько песен, на «Площади Ногина» разошлась по-настоящему, на закуску спела «На хрена нам война» (подзаебала, честно говоря, эта песенка), а потом объявила сюрприз: УМКА, и вышла эта самая легендарная Умка, коренастая тётушка, и стала горланить визгливым частушечным голосом. Уж очень громко её микрофон вывели на пульте, ни хрена было не разобрать, только понятно, что иногда были вставки на английском, цитаты из Марли, и так минут десять, довольно однообразные рэгги-частушки, кроме гитары и визга ничего не слышно.
По сцене скакал рыжий парень, то и дело извлекающий одну ноту из губной гармошки, возможно, это специальная такая гармошка, с одной нотой, чтоб не заморачиваться. В танце он скинул с себя свитер, а потом четыре тельняшки, оставшись в пятой безрукавной тоже тельняшке. Вот как-то по-другому плясал негр из «Джа торч» – тоже вроде отвязывается, но как-то художественно у него это получается, без патологии.
Ещё кто-то вылез прыгать по сцене, в общем, всё как положено.
Уже начало темнеть. Возле костра в сумерках – надо думать, именитые и заслуженные волосатые. Оля стала представлять мне их всех по очереди. Я, как всегда в подобных случаях, никого не запомнил, даже не старался. Запомнилось только, что кого-то Оля назвала «Слон на верёвочке» – позже оказалось, что так она охарактеризовала Вову Орского, Умкиного бой-френда, довольно метко, он даже потом обиделся на неё. Она имела в виду, как Умка всюду его за собой таскает, не как чемодан без ручки, а вот именно как слона на верёвочке, которого поклонникам Умки приходится тоже вписывать, а также кормить, поить и снабжать курёхой. Он ещё и капризничает порой, а Умка то тетешкается: «Вовочка, съешь персик», то кричит: «Вова-гад!». Внешность его напоминает гоблина – из густой массы волос, бороды и усов выглядывают два сметливых глаза.
Я поприветствовал всех, а потом сказал Оле, что мне нужно идти приглядывать за машиной. Оля была в упоении, наконец встретила родных, по которым успела стосковаться за время путешествия. Приятно было на неё поглядеть – наконец-то всем довольна. «Ну вот, - сказал я ей, - обещал привезти тебя к Умке и привёз». Я бы с удовольствием посидел у костра, полюбовался счастливой Олей, послушал новых людей, но нельзя же бросать Мишелек в непонятке.
Мишельки тоже были в приподнятом настроении – от того, что избавились от пассажиров.
- А они там останутся ночевать?
- Да вроде…
- Вот ништяк!
Снова Фил вместе с ними, а не с капризничающей Олей. Наконец только свои. Они суперстары, а мы уж такие, какие есть.
Однако Оля с Мышей вскоре вернулись. Умка объявила отбой, а спальные места у них очень строго распределены.
Я решил снова спать в машине. Оля недоумевала – как прикажешь понимать тебя, Саид? Вдобавок я решил развернуть машину, чтоб поставить её параллельно одеялам носом вниз, а не вверх, чтоб мои ноги не были задраны выше головы, и стал колесить взад-вперёд по лужайке, чудом не задел в темноте ни одно дерево. Оля, не понимая смысла моих манипуляций, решила, что я скоропостижно сошёл с ума – это она на другой день мне призналась.
А тут ещё нарисовался какой-то бородатый мужик и стал гнать нас: экологическая зона, ставить машины запрещается. Я высунулся в окошко и стал орать: ничего, приедешь в Симферополь, я там живо определю тебе стойло. Про Башмаков слышал? (это местная группировка, славящаяся беспределом). Ребята зашикали на меня и стали мирно уговаривать мужика, но думаю, что и моя тирада возымела действие – в последующие дни он неизменно выражал радость при столкновении со мною. Оказалось, что он самый главный эколог этого региона и заведует расположенным здесь лагерем скаутов. Ребята договорились с ним, что ладно уж, одну только ночку здесь проведём, а машину спустим вниз на дорогу. Вообще-то пришёл он, надо думать, за деньгами, но понял, что без толку.
Мужик удалился. «Ну давай хоть музыку перед сном послушаем», - предложили ребята.
Я поставил им свой сборник Наумова – ну послушайте. Первая песня про простых солдат рокенрола, отдавших ему сердце, но не продавших душу. Которых тысячи разбросано по свету. По-моему, очень подходила к случаю. Потом – «рокенрол – ну что же я могу ещё сказать?». Дальше «собаки уже взяли мой след», очень трагично и романтично, «я не хочу устраниться, я есть». И наконец моя любимая – «Я обманул тебя, мама». Я обычно всегда плачу, когда слышу, что «мне не под силу, милая, служить твоей мечте, ты мне вложила в руки меч и ожидала со щитом, молила, чтоб не на щите». Я даже не знаю, кого я представляю себе при этом – может, Инку, может, Галинку, а вообще собирательный образ Той, кто ожидает меня и молится за меня, пока я тут мудохаюсь с разными фифочками, в которых вообразил невесть что и которым сам я, по сути, по барабану, которые только своей неповторимостью озабочены, во всяком случае, ни ждать они никого не собираются, ни молить. А я им служу, как собака, а служить мечте тех, кто меня любит, мне, видишь ли, не под силу. А возвращаюсь – «в руках ни меча и ни щита», распиздяй, причём полный.
После этой песни я остановил кассету – невозможно слушать что-нибудь ещё после такого. Дальше там у меня шла набившая оскомину каламбурная баллада про Карла и Клару. Вместо этого я поставил на полную мощность «Любовь идёт по проводам» и под эти лихие риффы взревел мотором и устремился вниз.
Уж не знаю, оценил ли хоть кто-нибудь артистичность моего отбытия. Оля, наверно, подумала: ну точно ебанулся.
Разбудил меня Мыша. Взял сигарету и упиздил гулять. Я и так-то просыпаюсь чаще всего не в духе оттого, что никто не зовёт меня к уже заваренному чаю, а тут такой прекрасный повод для злости – ну на хуя будить человека? Вообще сверхзаподляна – будить. Спит человек – и пусть себе, пока спится. А теперь уж хуй ты заснёшь снова – я пытался, но не получалось, вместо этого я только больше распалялся. Разбудил – и съебал! Как будто больше не у кого сигарету стрельнуть. Тоже мне некурящий. Между прочим, за моим безакцизным «Бондом» Галочка аж на Киевский вокзал ездила, специально ради меня заморачивалась.
Пришлось вылезать наружу, разминать затёкшие на жёстких сиденьях члены и сооружать костерок. Потом сбегал окунуться в море. Когда появились Мишельки, я уже был бодр и весел и мыл машину, приплясывая под яростный «Супергрув[10]» (то есть группу, которую так обозначил юный Гарик).
Потом появилась и Оля.
- Представляете, - удивлённо рассказывала она, - спускаюсь на дорогу, а навстречу мне индеец. Самый настоящий, с перьями, с раскраской.
- Знамение, - пожал я плечами.
Потом оказалось, что в лагере скаутов «Маски» снимают своё очередное шоу, про индейцев.
Другое знамение заключалось в том, что в том же лагере, пообещав помогать в экологии, расположился председатель фан-клуба группы «Титаник» Пенькин с возглавляемой им группой «Сверхсрочные полки анархистов» и фанатами уже этой группы. Я долго не мог запомнить название и предлагал ему назвать группу просто «Пеньки» – это придумал не я, так говорили в Умкином стойбище: «пошли к пенькам» или «там, у пеньков…». Мне кажется, скромность иногда украшает. Одно дело, когда публика идёт на каких-то там «Пеньков», а выясняется, что музыка-то – о-го-го. И другое – когда идут на группу с таким навороченным названием, а оказывается, что названием замечательность группы и исчерпывается.
Пеньки предложили и нам поселиться вместе с ними, а за это помочь пару раз скаутам собирать по лесу оставленный отдыхающими мусор. Я отреагировал с энтузиазмом – да я же профессиональный дворник! Но остальные замандячили кисляки – нашли дураков. Тогда и я согласился с ними – действительно, всю зиму тусовал мусор, а теперь ещё и летом. Другое дело, сказала Оля, спеть этим скаутам.
Поселиться мы для начала решили где-нибудь неподалёку от Умки. Не вместе с нею – Умка, девушка прямая, сразу заявила, что ей на хуй не нужны никакие соседи, поскольку спать она ложится рано и терпеть не может не только базаров, но даже шепотков у костра. Костёр, возле которого её вчера застала Оля, был на стоянке молодых волосатых, расположившихся ниже – туда компания Умки спускается оттягиваться, а в её лагере режим строгий.
Машину мы пока отогнали в деревеньку, которая на карте называется Кацивели – откуда в Крыму такое грузинское название? Попросили местных присмотреть за ней, объяснили, что мы артисты, приехали к скаутам вместе с «Маски-шоу». Артистов простые люди привыкли благоговейно уважать.
В Умкином лагере стояли три палатки. В одной спали Умка с Вовой, в другой её четырнадцатилетний сын Лёха и Гаврила, выглядевший очень внушительно, борода и выбритый череп, он хорошо смотрелся бы среди воинов Абдулы в «Белом солнце пустыни». Оля сказала, что Гаврила очень красиво поёт а капелла русские народные песни. В третьей палатке жили длинноволосый очкастый Петя и рыжая Ксюха. Оля с уважением поведала мне, что Петя преподаёт во ВГИКе, а когда он достал свой «Никон» с длиннющим объективом, я даже застеснялся соваться со своим «Зенитом». И чего я так шугался? Встречались мы потом в Москве – Петя как Петя, я в своё время был фотографом не хуже, до хуя таких фотографов. Вот спеть, как Оля – это да, сможет не всякий.
Умка позже сказала мне, что Петя – великолепный любовник. Я засомневался – да? а на вид вроде такой невзрачный…
- Дурак, ты ни хуя не понимаешь. Знаешь зато, какой у него хуй? Как длиннофокусный объектив. А главное – всегда молчит. Что ещё от мужика нужно?
Вечером Оля засобиралась к скаутам – устраивать сэйшен. Она была уверена, что и Умка её поддержит, но пришлось обломиться.
- Да чтобы я – и пела этим гавнюкам? – возмущалась Умка. – Я уж лучше тут, у костра, спою правильным человечкам. Делиев, сука! И ты будешь петь для этого гандона?
Я так и не выяснил, чем ей не нравится Делиев. Хотя конечно – если смог закрутить и продвинуть такое дело, то можно себе представить… Ну а как иначе? Дело-то всё-таки хорошее.
К Умке в гости пришли те самые хипаки, которых мы встретили в Бахчисарае по дороге к Чуфуту. Знамения – такое дело: стоит лишь раз связаться с ними, и дальше они идут по нарастающей.
Когда мы случайно встретили их, нам было приятно посмотреть на их внешний вид. Но при ближайшем знакомстве я увидел, что это типичные представители хипаков, какими они видятся сейчас более экстремальной молодёжи – то есть чрезмерно, ненормально добрые и настолько же дебильные, во вполне медицинском смысле слова. Особенно противно было глядеть на слащавую приторную мерзкую доброту по отношению к их двух с чем-то летнему сыночку. Они просто пресмыкались перед малейшим его капризом, и капризам не было числа. Ради него же они снимали жильё в Симеизе за какие-то там доллары – как характерно! Стоит появиться бэбику – и с головою в Бабилон.
Да и внешность, если приглядеться – у обоих головы напоминают крупные дыни, с которых свисает одинаковая жёлтая пакля. А выражение фэйса – у него ещё ничего, но у неё – насмотрелся я на таких, когда был в дурдоме.
Конечно, это их личное дело, как они носятся со своим чилдреном, но ведь и все присутствующие оказываются невольно вовлечены в этот сироп. Хныканье доминирует над всеми прочими разговорами и гасит их, и то и дело все забывают уже, о чём говорили, и начинают дружно утешать плаксивое создание.
Умка всё понимала, тем более что она вообще не испытывает умиления от маленьких детей, - но она ведь вписывается у этой парочки каждый раз, когда бывает в Киеве.[11]
И вот как-то совершенно само собой вышло, что Умка сварила компот,[12] сняла котелок с костра и поставила рядом, а было уже темно, и белобрысая хипачка, бросившись исполнять очередной каприз, угодила ногой в самый кипяток.
Всем сразу нашлось занятие – лечить и утешать пострадавшую.
Умка и все прочие тусовщики расположились довольно высоко, подальше от экологов. Туда и со здоровой-то ногой подняться не так-то просто – почти как на Мангуп.
На следующий вечер Умка точно так же сварила компот,[13] и в него точно так же наступил её сын Лёха, с такими же сокрушительными последствиями.
Есть над чем подумать.
Потом мы спустились к ребятам, расположившимся ниже. Они привели каких-то молодых глупых тусовочных герлов, которые от полноты чувств вздумали визжать на весь лес.
- Тише вы, бляди! – прикрикнула на них Умка. – Что, давно мусоров не видели?
Герлы сразу притихли, а потом скипнули, ребята поплелись за ними. Молодец, думал я, глядя на Умку. Мишельки со мной соглашались.
Между тем, Оля куда-то пропала. Мыша сказал, что она оторвала туалетной бумаги, так что скорее всего пошла посрать[14], поэтому искать её не стоит, сама придёт. Вот мы и дожидались, наблюдая как Умка наводит порядок на тусовке.
Но уж слишком долго Оли не было, и мы решили идти к экологам без неё – может, она уже там? Хотя, конечно, вряд ли, странно как-то – пошла, никому не сказав? Одна в темноте, по незнакомым тропкам.
Спускаемся – точно! Уже сидит у костра. Вот что значит желание спеть – безупречно проведёт по любым неведомым тропинкам. То беспомощная – а то вон какая шустрая.
Впрочем, ничего удивительного, если вспомнить, как на одном её желании держится, выступает и пишется группа.
Пока что пел какой-то дядечка – возможно, старшой у скаутов? Или гримёр из «Масок»? Не знаю. Не такой уж, может, и дядечка, может, мой ровесник, только я индеец, а он цивил. Мне приходилось встречать людей лет на 12 моложе меня, выглядевших на столько же лет солиднее.
А пел он какую-то байду. Что-то ранне-бардовское, слащаво-шестидесятническое, типа «Милая моя, солнышко лесное». Я всё понимаю – ностальгия… ну так спел бы «16 тонн» или «Зиганшен буги». Пел бы вообще своим сверстникам, а то ведь кто здесь собрался? Какие-то пионеры. Вежливо хлопают после каждой песни, как в театре художественной самодеятельности. «Ну что, спеть ещё?» – спрашивает мужик. «Конечно!» – подобострастно подхватывают они. На хуя им всё это нужно? Во всём этом было что-то неискреннее и противоестественное. Тут бы ещё Вознесенского почитать наизусть и с выражением. Или Сулеймана Стальского (спасибо Летову за информацию).
И я, как представил, что сейчас Оля будет петь этой фальшивой аудитории свои заветные песни – так мне стало невыносимо противно! А они точно так же будут одобрительно ей хлопать?
Я сделал из положения сидя стремительный кувырок назад, из которого сразу встаёшь на ноги, и растворился во тьме.
Тут всё было ясно, а я спешил посмотреть теперь для контраста на Умку, пока она не отошла ко сну.
Подходя к костру, я снял рубашку и завязал её рукавами вокруг пояса. Я поднимался быстро и взмок, но вообще-то мне, конечно, хотелось выставить напоказ своё замечательное индейское ожерелье, подаренное Олей, на фоне рельефных в бликах костра грудных мышц.
- А правду Оля говорит, что песня «О настоящем индейце» про тебя? – проскрипела Умка, оценивающе меня оглядывая.
Я стал путано объяснять. Был у меня самый лучший друг Коровьев. Когда он стал звукооператором «Всё», я тоже захотел познакомиться с Федей и пригласил его через Коровьева в Крым – а чем ещё я могу заинтересовать? В россказнях Коровьева любые факты превращаются в легенды и мифы, так что можно представить себе, что он наплёл Феде про то, как я обычно провожу время в Крыму. Так что Федина песня – вторая производная, впечатления от впечатлений. А лично познакомились мы уже позже, когда Коровьев стал таскать Федю в нашу общагу. Да и вообще вся эта версия про индейца – всего лишь Коровьевская телега, и совсем неизвестно, что думает об этом Федя.
- А ты видел ту, кого он там зарезал?
- Конечно. Очень интересная девушка. Ты, кстати, очень на неё похожа.
- Ну это ты брось, - испугалась Умка. – Ну а как там внизу?
- Знаешь, я понял, почему тебя называют Умкой – потому что шибко умная. Даже скорее – мудрая. То, что ты не стала там петь – действительно мудро.
Я льстил, но как всегда, не врал ведь, а искренне так думал.
И почему это она зимой показалась мне «коренастой тётушкой» – может, просто на ней было много свитеров? Сейчас передо мной была худенькая миниатюрная девушка с грустным личиком, грустным от умудрённости.
Поодаль от костра какая-то герла беспомощно, но сосредоточенно ковырялась в гитаре.
- А нельзя ли попросить ненадолго гитарку? – обратилась к ней Умка. – Я тут хотела бы попеть немного на сон грядущий.
- Конечно-конечно…
- Спасибо… Это новая песня, правда, в одном месте там есть мат… Тут нет несовершеннолетних? – покосилась она на тусовочных герлов.
«я иду по трассе в ожидании дождя
небо как семейные трусы»
Пипл, вы можете себе представить, как я чуть не умирал от невыразимого блаженства? Я сижу у костра в Симеизе, и мне, одному мне, самозваному индейцу, поёт сама Джанис Джоплин. Это как раскуриться с самим Джа или поебаться с Памелой Андерсон, загримированной для порносъёмок.
Я, конечно, тоже почитал какие-то свои стишки, выразительно глядя ей в глаза:
дрожат колени
плывут черты
я не изменник
но только б ты
Впрочем, это написал мой друг Джонни, и я сказал об этом, но неважно, читал я и свои. Только это было ни к чему, вполне достаточно было моего ожерелья и широких плеч.
Хотя вообще-то стишки мои Умке вроде бы понравились, не то что Оле. Изо всего, что удалось мне прочитать Оле при случаях, ей понравилась только одна строчка: «не забить косяк дверной» (дальше у меня: кто там ходит за стеной? ДВЕРИ настежь – все за мной!)
Она даже спросила разрешения использовать эту строчку в своей песне. Да ради Джа! Она-то в своём тоненьком сборничке, дословно цитирую, «категорически запрещает исполнение со сцены и т.д. без моего прямого разрешения» - о как! Может, это курирующие бандюки подговорили её так написать? Подпись: «примечание от О.А.».
Позже, когда мы загорали на огромном прибрежном камне, названном тусовкой Философским, Умка попросила, чтобы я записал свои стихи в её тетрадь. «Зачем? – удивился я. – Я в Москве дам тебе свой собственноручно отпечатанный сборник, и не один» – «Ну, то в Москве, - усомнилась опытная Умка. – А вот ты сейчас запиши что-нибудь, что вспомнится». Я записал столько, что она забеспокоилась, что не осталось места для её собственных записок. Я пообещал дать ей в Симфике тетрадку.
А в тот вечер она спела ещё несколько песен и объявила, что ей пора рубиться. Я поплёлся вслед за ними (при нашем знакомстве присутствовал и Слон на верёвочке), спать я не собирался, но не оставаться же у костра с незнакомыми людьми, знакомиться с которыми мне было лениво.
- Вова-гад! – бушевала Умка в палатке. – Куда дел фонарик?
Я устроился недалеко от них, завернувшись в одеяло. Для ночёвки мы собирались подняться ещё выше, но сперва нужно было дождаться остальных. А пока я хотел поглазеть на звёзды и просмаковать новые впечатления.
- Ну а ты тут как? – вынырнула из темноты Умка.
Я заверил её, что прекрасно её понимаю, что сам терпеть не могу, когда мешают спать. Вот Мыша, например, сегодня утром так бесцеремонно непоправимо прервал мой сон из-за какой-то сигареты.
- Мне пришлось собрать воедино всю свою безупречность, чтоб не послать его на хуй.
- Ха-ха-ха, безупречность! – гортанно захохотала Умка. – Собрать всю свою безупречность! Хороший какой, - вдруг прошептала она, наклонилась и поцеловала меня.
И опять, в который уже раз за это время, я повёл себя так, что теперь вспоминаю – и самому не верится! Ведь всегда, встречая в книгах таких нерешительных героев – а романтические герои обычно именно таковы, - я презирал их нерасторопность и негодовал на их тупые целомудренные принципы. Что же вдруг со мной случилось? Может, я вообразил, что они – недосягаемые боги, а я – божий раб, трепещущий и безвольный? В случае любой другой герлы я бы сразу высвободил руки из-под одеяла, обхватил её и сжал покрепче, чтоб сразу почувствовала, что имеет дело с необузданным индейцем, чтоб хрустнула и обмякла. Из этого вовсе не следовало бы, что после мы неотвратимо перейдём к половому общению – это уж как Джа расположит. В общем-то – отчего бы и не стать ближе? А Слон пусть дрочит, если хочет, не зарежет же он меня?
Это я сейчас представляю, как было бы, если б я воспринял Умку как человека, а не живую икону. А тогда мне даже в голову не пришло ничего подобного. Я блаженно воспринял поцелуй Умки, как поцелуй мамы перед сном, когда ты уже сладко запелёнат в подоткнутое со всех сторон одеяло. И даже задним числом, когда она уже поднялась и удалилась к своему Вове, я не думал ни о чём сексуальном, а лишь перекатывал туда-сюда её слова «хороший какой» – это она! это обо мне! И вспоминал вкус её поцелуя – точно как девственный школьник.
Умка ушла, а я стал собакой, охраняющей её сон. Когда вдалеке послышались голоса возвращающихся с сэйшена ребят, я бесшумно выскользнул из-под одеяла и пружинистыми прыжками побежал им навстречу:
- Пипл, вы чё так орёте? Умка уже спать легла, и очень просила нас собирать свои манатки потише.
Все примолкли, но, конечно, никак не могли воздержаться от возгласов, а я шикал и очень злился на их беспардонность. Они, конечно, были правы – один раз потерпит, ни хуя с нею не случится, - но я честно играл взятую на себя роль сторожа Умкиного покоя.
Мыша повёл нас на полянку, которую он присмотрел днём. Мы поднялись по склону, прошли по невидимой тропинке сквозь высокую траву и стали располагаться под нависающей кроной сосны (или пихты – я не очень разбираюсь). Когда все начали уже засыпать, а может, и заснули, я стал монотонно бубнить в пространство, как выживший из ума старый хрыч – дал волю своему недовольству Олей:
- Конечно! Одно дело – петь неизвестным проходимцам, а другое – уважаемым людям. Может, этим людям и безразлично, кто им устраивает шоу, им что Христос, что фокусник – одна лабуда, лишь бы порасходовали на них свою энергию, а они повсасывали. Зато они могут принести пользу, вписать поуютнее, от мусоров оградить. А с мангупских тусовщиков – что с них получишь? Какой от них понт? Может, честные и простые, но – полные никто, шваль. А эти – пусть и фальшивые, и ради преуспеяния подлые, зато конкретно преуспевшие, для них можно и постараться…
Ну и так далее, долго и нудно. И необъективно. Она ведь действительно исполнила нужное для всех нас дело. После её выступления мы стали на особо привилегированном счету у главного эколога, в противоположность Умке и иже с нею, на которых он в итоге натравил омоновцев. С другой стороны, тот же Христос уделял своё внимание именно мытарям, вроде этого эколога (в лесу не раз жгли костры и ночевали крутые иномарки, и их он не гонял – да иначе и не бывает). А праведников – что их просветлять, если они и так праведники? Да и никакие не праведники эти мангупцы, а пустопорожние лентяи и тащунчики, которые покурят все твои сигареты, только дай, и сгущёнку скоммуниздят, если случай предоставится
Смысл моего выступления был в другом – оно знаменовало изменения моего к Оле отношения. Я устал быть послушным, покладистым и бессловесным. Это вообще не в моей натуре, никогда я таким не был. Получается, что всё это время я притворялся? Прикидывался овечкой? Да нет, просто я ведь пригласил Олю и поэтому чувствовал в некотором роде ответственность – она была у меня в гостях в моём драндулете. А теперь я довёз её до места назначения, вернул в её родную среду, и после этого смог позволить себе высказаться.
Я удивился ей, но сам так и не смог ничем её удивить – во всяком случае, она ничего такого не показала. Если я был Незнайкой за рулём автомобиля, то она – Пачкулей Пёстреньким, который никогда не умывался и ничему не удивлялся. Видала она уже индейцев, насмотрелась.
И даже братушками – мы тоже так и не смогли стать. Вот в Умке мне почему-то сразу почудилась сестра, чуть ли не сиамская.
Сдаюсь – вот что означала моя тирада. Сделал, что мог…
Ответа не последовало. Если Оля что-нибудь и слышала, то всё равно продолжала притворяться, что спит. Конечно, полемика при таких свидетелях и в такой ситуации была бы неуместной, но я всё же надеялся, что она не выдержит – мне-то на свидетелей было положить.
Молчание и посапывание. Ну я и успокоился. В смысле замолчал. Успокоиться-то никак не удавалось. Да ещё и мошки кусачие одолевали. Вот же Мыша! Любому дураку известно, что под деревьями всегда кусают какие-то мошки. Ему-то что, они обычно выбирают самого вкусного – меня то есть.
Наконец я решительно поднялся и пошёл спать на открытое место. Плюхнулся среди высоких трав и, успокоившись от своего жеста, заснул.
Проснулся я от жуткого кошмара. Обычный мой кошмар – что я в тюрьме ну или там на зоне. В детстве во время кошмаров мне снились фашисты, у меня тогда не было личного негативного опыта, но я уже умел всем существом сопереживать фильмам и книжкам. А теперь всегда снится лишение свободы и перспектива долгого неотвратимого срока.
Но тут после тюрьмы стало сниться что-то ужасное не реально, а мистически, иррациональный ужас в чистом виде, что-то инфернальное. Я уже понимал, что сплю и нужно просыпаться, но какая-то сила никак не отпускала меня, не давала вырваться. Хочешь бежать – и не можешь, хочешь кричать – и не получается. Со всех сторон давит бесконечная масса, а сам ты тонкий, как ниточка, как лучик. Третья перинатальная матрица.
Собрав все силы, я всё же вырвался в этот наш мир реальности, где мы как бы вместе, из мира, в котором ты навсегда один и больше никого, не считая окружающего со всех сторон безразличного к тебе Хозяина.
Уже рассветало, солнце ещё не вылезло, но темень уже не была непроглядной. Первое, что я увидел – торчащее прямо перед моим носом засохшее деревце. Оно выросло где-то на полметра, после чего по неизвестным причинам засохло. Ну и знамение…
Я встал, сгрёб одеяло и стал искать подходящее для сна место по рекомендациям дона Хуана. Никаких рекомендаций я, конечно, не помнил, тем более спросонок, знал только, что теоретически это существует – места благоприятные и не очень. Наконец решил, что сойдёт, главное – поискал, а не улёгся, где попало. И заснул теперь уже спокойно.
А когда проснулся, солнце уже поднялось, и всё было чудесно. Под пихтой никого уже не было, стоял только демонстративно мой закопченный чайник. Вчера мы его с собой не брали, значит, кто-то не поленился за ним сходить. Я сразу развеселился.
10. Музыкант никому ничего не должен
Подхватив чайник, я пошёл к Умкиному кострищу. Там никого не было, и я спокойно проделал все свои антипсихопатические процедуры. За деревьями кто-то заводил мопед – интересно, как им удалось втащить его на такую верхотуру? Позавтракав куском хлеба, я сунул в карман зубную щётку и пасту и стал спускаться к морю. Мне не терпелось поскорее увидеть Умку.
Она была на Философском камне. Были там и Петя с Ксюхой, и ещё какие-то волосатые – и все голые, наконец-то! Я шустро обнажился и показал, как ныряют и плавают индейцы. Вода была довольно холодной, но всё же уже лучше, чем в Феодосии.
- А где Оля с Мышей? – спросил я у Умки, чтоб был повод расположиться к ней поближе.
- Пошли в Симеиз звонить.
- А Мишельки?
- Даже и не знаю… А этот Мишель – это твой друг?
- Ну, друг – понятие растяжимое, - уклончиво ответил я. – Во всяком случае, он человек, на которого я могу положиться почти во всём. Во всём, что нужно в дороге.
- А в чём не можешь?
- Семья для него – это святое. А свободная любовь – табу.
- А для тебя семья – не святое?
- Знаешь, у Летова есть такая песня «Простор открыт – ничего святого»?
- И что, у тебя ничего святого?
- Когда как. Если что-то в этом роде и бывает, не хочется пользоваться таким высокопарным словом.
- Для меня Лёха – это святое всё же… А Димон – нет.
- Кто это – Димон?
- Мой муж.
- Отец Лёхи?
- Нет, просто муж.
- Ну, у меня целых две жены.
- Две жены?
- Ну то есть две матери моих детей.
- Ну и что там у вас насчёт святого?
- Я только рад, если моему другу удалось найти общий язык с кем-то из них.
- А недругу?
- А у меня нет недругов. Ну, если просто с кем-то левым спуталась – чего у бедных девочек не бывает. Ну а если с другом – это доказательство неслучайности дружбы. Карасс. Читала «Чужой в стране чужих»? Водные братья?
- Да, хорошая книжка… Вот у меня Вова – настоящий брат. А Мишель тебе, значит, не братушка?
- Вводный? Формально – конечно, было когда-то… Наиля… Да и до неё… Он ведь и автостопом ездил, да и сейчас музыку слушает, книжки читает, - выгораживал я Мишельку, - просто выглядит так, такая у него работа. Он ведь у меня что-то вроде спонсора, - доверительно сообщил я, чтоб не принимала меня за мажора с машиной, - ну то есть всё по-дружески, но просто, знаешь, расходы на бензин… Я ведь дворником работаю, и без него у меня вряд ли получилось бы вот так запросто раскатывать по Крыму.
- А что у него за работа?
- Торгует спиртом, абхазская мафия. Возят из Белоруссии, на джипах, с автоматами. Он ведь ещё и каратист, просто Рембо.
- Да-а?… Ну а жёны твои как относятся друг к другу? Тоже сестрички?
- Представь себе – да! Они ещё и до знакомства со мною были лучшими подругами, да и сейчас так любят друг друга, что мне порою кажется, что я там и не так уж нужен, - я приукрашивал, как и насчёт джипов с автоматами, то есть один-два знаменательных случая преподносил, как обычный порядок вещей. Мне хочется, чтобы реальность была красивее, чем она есть на самом деле.
Мишелька, когда однажды понадобилось, не сплоховал, проехался на этих вооружённых джипах – смог, молодчик. Карате, конечно – как говаривал мой папа, давно и неправда. Но почему бы для себя, чтоб было интересней, не представить, что ездишь с персонажем боевика? Точно так же – почему бы не вообразить в своей герле что-нибудь романтическое, Эммануэль или Сафо? (Только не героинь русской классики – вот этого не надо…). Почему бы не увидеть в Умке Джанис Джоплин? Что мы знаем о Джанис? Это ведь миф. Может, ей тоже кто-то мешал засыпать или по утрам без чая колбасило? Слава Джа, что хоть иногда кто-то поёт, как Умка, а кто-то хочет ебаться, как Эммануэль. Но постоянно быть героем – никто не выдержит. Да и ни к чему.
Умка стала одеваться – пора идти готовить еду для своих подопечных. А я решил сходить в Симеиз – мне тоже нужно было позвонить, в Симфик Славке, уточнить, когда приезжают Филька с Инкиной мамой. Я должен был встретить их и пристроить где-нибудь у моря. Как скучно! Я не случайно сказал «Инкина мама», а не «тёща», поскольку она на редкость добрейший человек (и тихушный вампир, но с кем не бывает), просто дело не в том… в общем, такие разные миры! Я наконец впервые за довольно уже долгую жизнь попал в мир, где мне все свои, где даже и разговора нет о том, что важнее – написать стишок или зарабатывать на насущный. И так скучно возвращаться на Землю и опять прикидываться землянином. Я ведь им всем, маме, Соне и прочим смертным так вынужден объяснять свои действия (прямо как мусорам): собираюсь стать звукооператором группы «Титаник», поэтому с ними и езжу. Они ведь всё так же верят в мой диплом, ждут какой-то там карьеры.
В Евангелии, когда к Христу на сэйшен приходят родаки и просят вписать поближе к сцене, он им недвусмысленно объясняет, кто ему истинные братушки, а кто – только по паспорту. А я вот не дошёл пока до такого просветления, всё компромиссничаю.
Заодно неплохо было бы в городе закинуться каким-нибудь чебуреком.
Иногда бывает пора и одиночеством понаслаждаться. В этот день мы все отдыхали друг от друга, особенно я – они-то парочками отдыхали.
Я, например, обнаружил, что совсем не видел Симеиза вчера, и не только там, где должен был следить за дорогой, но и там, где мы гуляли пешком. Возможно, парочкой всё же было бы ещё интересней открывать эти террасы, деревянные балкончики на сваях, скрытые в плюще и кустарнике лесенки, примыкающие узкие улочки, метров через десять поворачивающие в неизвестность.
Когда в середине уже где-то дня я, чуть запыхавшись, вскарабкался меж секвой и сосен на Умкину потаённую площадку, у костра было пусто, в зашнурованных палатках, судя по всему, тоже. Отдышавшись, я заметил, что на полянке за соснами в просветы видно одеяло и тела, судя по стыдливой блокадной бледности, Оли и Мыши. Подойдя ближе, я увидел и Гаврилу. Они то ли спали, то ли пытались заснуть. «Ништяк, - подумал я, - можно не прерывать их потенциально медитативное одиночество и спокойно постираться после Мангупа». Действительно, это первое дело, когда приезжаешь к морю, поскольку тут после гор всё кругом выглядит таким вычищенным, а под выбеливающими всё способное отражать лучами полуденного июльского солнца – просто стерильным, что хочется скорее перестать выглядеть с гор спустившимся, хочется стать таким же вымытым, как прибрежные валуны.
К тому же стирка, да ещё и в горном ручье – занятие очень располагающее к медитации или к чему-то там такому, типа поэтического повышенного охуевания от яркой красоты и неповторимости всего видимого, слышимого и воспринимаемого в сложном комплексе ассоциаций по мотивам любимых сказок.
Я увязал в рубаху свою джинсовую амуницию и обе майки, «Всё идёт по плану» и «Ешь богатых», и туда же сунул Олину зелёную футболку и Мышин тельник, впрочем, и то, и другое они носили по очереди. И то, и другое пахло непереносимо, как я определил про себя, Мышиными подмышками.
Вернувшись от ручья, я развесил все тряпки в лучах клонящегося на убыль солнца, накинув на кусты и кипарисы. Время от времени я по очереди перевешивал все предметы.
Проснувшиеся пассажиры с интересом наблюдали за моими манипуляциями. Они изумились, обнаружив, что я перевешиваю и их маечки, и я рассказал им про гитариста Свиндлера, страдающего гайморитом и не замечавшего никаких запахов. Друзьям, приходившим в гости, он объяснял, что это у него под полом сдохла крыса. Но потом и в Москве, и в Питере, где бы он ни селился, все посетители сразу слышали: опять сдохла крыса. На его примере я пришёл к выводу, что иногда особо чуткий музыкальный слух развивается для компенсации отсутствующего обоняния.
Оля сообщила, что сегодня утром они посовещались с Мишельками и решили переночевать у моря. Тем более что с экологами вчера вроде бы поладили.
В общем, встретимся внизу. Они уложили свои рюкзачки (одеяла были наши с Мишельками, то есть мои) и стали спускаться вместе с Гаврилой, а я остался переворачивать то, что ещё не досохло – собственно, оставалось досушить джинсовую куртку. А пока я решил запарить чифирку. Я кайфовал – свобода, на площадке среди лесистых склонов, я голый. Это совсем разные кайфы – когда ты голый возле моря, это как-то естественно, понятно, загорает человек. А вот когда ты голый в лесу, то ты либо Тарзан, либо сексуальный извращенец, дополнительные острота и романтика. Когда ты один, может произойти всё, что угодно. Например, на лужайку может случайно забрести герла, которая захочет присоединиться к извращениям, а потом окажется, что это фея, которая любую палку может превратить в волшебную, исполняющую желания. Кстати, хорошая мысль – а что если загадывать желания, каждый раз, когда кончаешь?
Вместо феи на тропинке появился парень лет двадцати с чем-то.
- Извините, нет ли у вас немного воды? – спросил он, тяжело дыша.
- А вот я только что чаёк запарил, - откликнулся я и налил ему честь по чести, дал ложку, предложил сахар.
- А может, у вас и папироса найдётся?
- Вот папирос-то нет… да, жалко… Но я могу и в сигарету заколотить, просто мигом.
- Вот у меня тут совсем немного, - и дал мне бумажный пакетик.
Развернув бумажку, я увидел маленькую, как раз на папироску, кучку чуйской травы, которую в Москве называют иногда питерской, потому что азиаты везут её почему-то именно в Питер. В Москве чуйка тоже попадается, возможно, переправленная уже из Питера, по крайней мере раза в два дороже, а чаще – так называемые шишки, то есть узбекские или туркменские (иногда крымские) культуры, корабль стоит столько, за сколько в Питере можно найти стакан чуйки, хотя вообще-то он того и стоит. Вообще же последнее время чаще всего бывает гашик, тоже так называемый, потому что на самом деле никто не знает, что это вообще такое – гашиш. У нас это обычно или прессованная пыль, или замешанная на «химии» – смоле, вытянутой из травы с помощью спирта или ацетона. А то и 646-го растворителя – тогда от такой химии будет болеть чан и вообще похуёвеет. И пыль – вовсе не пыльца, собираемая вручную: ручник мацают только для себя и особо уважаемых кентов. А пыль – это просто пробитая через тряпку трава, совсем не с целью повышения концентрации кайфа, а только для удобства транспортировки. И гашик этот по сравнению с травой – всё равно что плиточный или гранулированный чай по сравнению с листовым.
Я выпотрошил «Бонд» и вежливо смешал траву с табаком – чуйку можно не разбавлять, но чтоб забить не всю, а дэцел оставить чуваку.
- Трава похожа на питерскую, - заметил я.
- Так я из Питера её и привёз.
Познакомились, он оказался Дэном, они с другом стоят метров на 50 выше Умки. Друг подвернул ногу и поэтому лежит сейчас и никуда не ходит.
Курить Дэн со мной не стал – и так уже хватит, хапнул по дороге из Симеиза, теперь такой сушняк. И то, что осталось, он тоже не взял, оставил мне, чтоб я потом догнался. И сразу заторопился к поверженному другу.
Молодец, вот это правильно. А то обычно бывает, что курнёшь, но потом-то надо общаться, и весь кайф уходит на это общение. Для общения нужно напрягаться, думать, а это противоречит кайфу, вытесняет его. Те, кто знает, дунув, просто молчат и только посматривают друг на друга – ну как? Лучше всего вместе играть, а если не музыканты – слушать. Или похохотать бессмысленно (чем меньше смысла, тем смешней и кайфовей), если на ха-ха пробило. Если же кого-то пробивает тараторить, слушать его не обязательно, это, конечно, если хороший кайф, если, как сейчас выражаются, накрыло. Я им завидую, меня давно не накрывает. Но если чувак пургу метёт, я и безо всякого кайфа непроизвольно отключаюсь.
Дэн ушёл, а я стал собирать свой и Мишелевский рюкзаки. Траву я почти не заметил – ну трава и трава, вроде прёт слегка.
Оба рюкзака оказались выше моей головы в надетом положении. Свой я надел на спину, а Мишелевский как более лёгкий повесил на грудь. Поэтому идти пришлось наощупь, только в самых трудных местах поворачиваясь боком, чтоб разглядеть дорогу.
«Проверка безупречности – всё ли идёт по плану?» – решил я. Тропинки вниз узкие и крутые, но если положиться на знамение, то кайф сам будет направлять ноги.
И вот тут меня вдруг вставило. Так конкретно вставило, ребята, как давно уже не вставляло. Ощущения были точно такими же, как когда-то от питерской кислоты. Все имеющиеся рецепторы захлестнуло валом ощущений, подобным неотвратимо двигающейся волне цунами. Больше всего поражало зрение, самый слабый из моих органов чувств и поэтому реже используемый. Когда я изучал кислоту, мне вспоминались впечатления от замены выцветшего совдеп кинескопа на новый «Тошибовский» – вдруг обнаруживаешь, какими пронзительно яркими могут быть краски, даже преувеличенно, химически, ядовито сочными. А ещё я тогда же впервые надел контактные линзы и удивился тому, каким, оказывается, видят мир все остальные люди. Только в линзах просто видишь множество новых деталей, под кислотой же во всех этих деталях начинаешь усматривать торжественный и жутковатый подтекст, смотришь реалистичный полный трагизма фильм про себя, такие многозначительные фильмы иногда снятся…
А параллельно обрушиваются запахи и звуки. В данном случае это были запахи крымских лугов, которые я не больно-то различаю, когда где-нибудь мне дают понюхать одну из этих трав, мне просто сразу вспоминается ветер где-нибудь на яйле, но ботанически поименовать не могу. Помимо оттенка, присущего каждой отдельной траве, я слышу в них один общий, трудноопределимый, но явный запах, запах высыхающих крымских горных лугов (может, это запах овечьего гавна?).
А тут – я ведь ещё и йоговски дышал под рюкзаками – я услышал все эти оттенки, какие-то из которых становились вдруг острее по мере моего движения. И звуки – одних цикад, наверно, штук десять разных, а ещё и шмели, и пчёлы… слитный обычно гул вдруг разделился на множество выделяющихся и настоятельно вползающих в восприятие видов звучания.
И всё это одновременно, и всё это на фоне переполняющего, как вулкан, тотального счастья. Позади наверху – лес уже в тени, впереди – сияющая, как оживший сфинкс, Кошка. И я мягко отталкиваюсь, едва земли касаясь, почти парю.
В конце спуска я всё-таки навернулся. Это был последний ровный отрезок перед спуском на шоссе, за которым была уже стоянка Пеньков, и я расслабился, а может – засмотрелся на идущих навстречу скаутов. Упал я удачно, на мягкий Мишелькин рюкзак, встал сам, хоть и не без усилия.
Сбросив рюкзаки у Пеньков, я просто воспарил и по пляжу до Философского камня пропорхал, как мотылёк, лишь чуть касаясь валунов кончиками носков.
Тусовщикам на камне я в двух словах, захлёбываясь от восторга, описал, какого замечательного Дэна только что встретил, и кинулся с камня в воду.
Умка громко хохотала, когда я рассказал ей свой любимый в этом году анекдот. Она всё никак не могла поверить, что Оля может рассказывать такие анекдоты, и гораздо более, чем анекдот, смешным она находила то, что Оля рассказала его мне.
Итак, анекдот, рассказанный мне Олей Алтуфьевой 14 июля 97 года на Мангупе. Сидит на скамейке интеллигентная девушка и читает книжку (возможно, «Золотую кобылицу»). На скамейку усаживается мужик, судя по виду, свободного образа жизни. Достаёт из кармана пузырь водяры, срывает зубами жестяную бескозырку и протягивает девушке:
- Герла, пить будешь?
- Ой нет, что вы, - отсаживается от него девушка.
Мужик, не смущаясь, отхлёбывает, достаёт из кармана мятое яйцо и сырок с прилипшими табачинками:
- Герла, может, закусишь хотя бы?
- Ой нет-нет, спасибо, - девушка отодвинулась уже на самый краешек скамейки.
Мужик закусывает и произносит как бы про себя:
- Ну ты такая цаца, что о миньете я уж и не заикаюсь.
- Это из анекдота у тебя «цаца» в твоей песне? – спросил я Олю.
- Скорее в анекдоте из песни, - ответила она.
Солнце исчезло за гребнем. Мы сидели у Пеньковского костра и поджидали Мишелек. Ещё по дневному яркое небо просвечивало сквозь почерневшие уже деревья. Ветки кустов кругом костра торчали из полной, уже ночной темноты. Как у Магрита.
Оля, как всегда, благоверно сдерживала своё справедливое неудовольствие, позволяя себе лишь горькие намёки на то, как мы будем ломать ноги, пробираясь по берегу в темноте. Я уверял, что она просто не представляет себе, как будет светло при луне. Вот оно в чём дело! – вспомнила Оля. – Полнолуние же! Пик активности бесов и психической неуравновешенности. Бесов будят ведьмы, - возражал я. Или монашки, что в принципе одинакова хуйня, пардон за цитату.
- Откуда цитата? – интересовалась Оля. – Не из индейских ли виршей гордого собою воина?
- Да нет… я даже не помню… что-то народное…
- А Умка кем тебе показалась – монашкой или ведьмой?
- Я ж говорю – одно и то же, - вздыхаю я. – Конечно, ведьмочка. Только прикидывается, что не монашка. Я уже говорил ей, что она похожа на Иру из Пауково, она отнекивается, а на самом деле точно так же – что ни движение, то колдовство.
- Я вижу, в целом, надо так понимать, Умка тебе понравилась?
- Мне кажется, десять так тысяч лет назад нас связывали с нею очень тесные, возможно, кровосмесительные отношения.
- Ну, за десять-то тысяч лет – кого только и с кем не связывали отношения.
- Возможно. Однако из скольких-то миллиардов опять и опять встречаются всё те же, вот какое знамение. А вот как бы расширить пределы этого круга?
- А может – лучше сужать?
- А это невозможно. Только если кого-то пробьёт на выход из сансары, а так – куда ж они с подводной лодки денутся?
- А ты уже говорил ей насчёт десяти тысяч лет?
- Не помню, вроде говорил… Или ещё скажу…
Мишельки нарисовались в отблесках костра весёлые, пьяные и с портвейном. То есть портвейн они светить не стали, просто Мишелька, ухмыляясь и подмигивая, увёл меня за кусты возле дороги и достал для меня из рюкзачка пузырь, чтоб я душевно, не смущаясь Оли, приложился.
- Пей-пей, - приговаривал Мишелька, - мы-то с Элеонорой хорошо сегодня напробовались. Ах, Фил, где мы были! Ты себе не представляешь! Нет, что я говорю, как это: ты – и не представляешь? Фил, прикинь, Кореиз – вау! Ты ж был в Кореизе? Ну и что ты скажешь? Ништяк, а? Это знаешь, я тебе скажу, это то же Сухуми, мне казалось сегодня, что я попал домой…
Примерно так, с кавказским акцентом Мишелька пытался выразить переполнявшие его впечатления, сентиментальный по-пьяни восторг. Я был рад, что ему так понравилось.
Оля нас выкупила сразу. И сразу сделала выводы: Фил сам выбрал, общаться ли ему сегодня вечером со мною или предаваться пьянству. Да ещё и при полной луне, опять зашизует. Попросив у нас одно из ватных одеял, они с Мышей без лишних слов подхватили свои рюкзачки и полезли в гору.
Ну и ладно! Мы с Мишельками нацепили нашу поклажу и пошли по берегу искать уютное место. Остановились в первом же подходящем – возвышенная метров на десять над морем лужайка под луной, вернее даже – два маленьких пятачка, на одном постелили себе Мишельки, на втором расположился я. Сперва посидели вместе, допивая пузырь и второй, ими припасённый. Помечтали, как Мишелька поселит в Кореизе свою маму, ещё о всякой ерунде – главным было попивать портвешок, передавая по кругу бутылку, и слушать разливающееся внутри тепло, а когда бутылка закончилась, мы завернулись в одеяла – плеск волн, цикады, запахи моря, луна, тепло.
Разбудили нас мусора. Впрочем, весёлые и довольно вежливые. Они сразу увидели, что имеют дело не с тусовщиками, а со взрослыми людьми, просто так вот экстравагантно (о вагантах, впрочем, они вряд ли слышали) ночующими. Валяются красноречивые две бутылки – отчего бы и не переночевать таким образом? Я сам из Симфика, вот моя прописка, а это мои друзья, приехали переночевать у моря, на машине, вот права. Машина? – у знакомых. Почему друзья не зарегистрировались? – только вчера приехали и сразу на море. Вот как раз сейчас собирались идти регистрироваться.
В общем, бесплатно.
Из-за этих мусоров мне даже пришлось закурить натощак. Зато потом, едва они ушли, я мигом изготовил чай, Мишельки даже умыться не успели.
Весь этот день мы провели у моря. Наконец лето! Умка сказала, что теплеть стало с тех пор, как мы приехали. Вода тоже потеплела, по крайней мере настолько, что стало возможным поплавать за рапанами и мидиями. Вторую неделю в Крыму, а до сих пор не ели мидий! На самом деле вода была ещё холодной, еле переносимой, но ведь Оля скоро уедет, если сегодня не угостить её мидиями, то когда же?
Мишельки расположились метров за двести от Философского камня. Я сходил посмотреть – и в самом деле место у них было гораздо лучше. Чуть выше уровня моря ровные плиты с горизонтальной поверхностью, и поваляться можно, и в воду заходить удобнее. Тусовке просто лень было пройти по берегу ещё двести метров. И центральный Философский камень, и окружающие его камни поменьше совершенно не подходили для лежания, на них можно было только неудобно сидеть, и то – подложив что-нибудь под жопу. Но мне интересно было знакомиться с тусовкой, а Мишелькам это было совершенно не интересно. Они и Олю-то терпели только ради меня.
Мишелька, впрочем, пришёл в гости. И получил впечатление, которое потом вспоминал всю зиму: «Нет, но я как вспомню, как она пела! Не кому попало, а просто морю! Море ревёт – а она ещё громче. И ты помнишь? – море даже успокоилось наконец!»
- А вот я когда-то сочинила песенку про спонсоров, - незаметно подмигнула мне Умка и спела «Музыкант никому ничего не должен». Правильная песня.
Умка действительно пела очень здорово. Понятно, что для моря, но вообще-то, по-моему, для меня. Ещё присутствовал юный длинноволосый гитарист из, кажется, Харькова, которого поразили как Умкины песни, так и мои стихи, которые я как раз записывал в Умкину тетрадку.
Остальные расположились кругом нашего камня кто где. На торчащем над самой водой камне гордо возвышалась впервые обнажившаяся Оля. Именно – нагая. Загорелые уже не контрастируют с пейзажем, одеты загаром, а вот начавший загорать недавно со своим новым положением ещё не освоился, и поэтому сразу видно, что он голый. Оля же восседала с таким своим обычным величием, что никак не беспомощно голой была, но в исполненной достоинства наготе.
- Смотри-ка, - сказал я Умке, - в вашей компании она всё-таки разделась, а вот на Тарханкуте нипочём не желала снимать труселя. Только лифтон – то снимет, то наденет, туда-сюда.
- Да я сама впервые вижу, чтоб Оля – и разделась. Никогда не ожидала от неё такого. Этим летом я узнаю о ней много нового. По-моему, это ты на неё влияешь и, похоже, положительно. А ты не хотел бы её трахнуть?
- Да неплохо бы… Но только если бы она сама этого захотела…
- А как она тебе ещё должна хотеть? Уже трусы даже сняла.
Ближе к вечеру мы соорудили костёр на берегу возле Пеньков и приготовили, как положено – салат из рапанов, плов из мидий. Только собрались приступать к трапезе, откуда-то появился бледный хмырь, напоминающий не то тихого секс маньяка, не то комсомольца, разыскивающий Алтуфьеву.
Оказалось, он собирается проводить в Севастике какие-то концерты и прослышал, что Алтуфьева тоже в Крыму. Не хочет ли и она принять участие в проекте?
Было ясно, что заставить Олю поменять расписанные уже планы невозможно, и было видно, что этот тип, раз уж проделал такой путь, поймёт тщетность своих усилий нескоро. К тому же он упоминал каких-то согласившихся петь Хуйкиных, то есть явно не просекал разницу между Башлачёвым и Тополем. Мы разобрали миски, а Оле оставили её порцию.
Мы уже и чай попили, и закурили, а они всё беседовали.
Вечером скауты собирались идти в подшефный лагерь с концертом, главным номером которого должна была стать Оля. Мишельки решили лучше прогуляться в Симеиз за портвешком. Я решил, что интереснее посидеть у Умкиного костра. Мне было стыдно, что я так и не смог вписаться к Оле с какой-нибудь перкуссией.
Возле Умкиного костра я познакомился с новыми персонажами – Мафи, крупный парень с очень длинным густым хаером, и Бен Ган незапоминающейся внешности. Из-за близорукости у меня плохая зрительная память, и ребята со стандартной причёской мне не запоминаются, я никак не могу отличить их друг от друга, как китайцев или вьетнамцев, а если они ещё и Серёжи или Саши…
У Бена Гана была беспонтовая крымская дичка, и Мафи привёл его туда, где можно спокойно сварить молоко. Умка удивилась, с чего он взял, что на её костре можно варить молоко, но Мафи не смутился – можно и где-нибудь в сторонке развести костёрчик. Проблема только – через какую бы тряпку отжать?
Я предложил ребятам свою банданку “Fuck you”.
- А тебе не жалко? – изумились они.
- А что ей будет? Постирать потом и всё. Зато крещение пройдёт.
Ребята меня зауважали.
Я вообще-то не люблю «молоко» или, как его иногда называют, манагуа. Иногда бывает, что оно вставляет неплохо – ощущение, как от травушки, но пролонгированное. Но это только если точно выдержать дозняк. Чуть передоз – и уже выхлёстывает, и это уже не кайф, а довольно тяжёлые, близкие к предсмертным ощущения. А когда организм совладает с ними, он просто отключается. Половину суток валяться без сознания – ну и чё за кайф?
А дозу выдержать очень трудно – может, полстакана надо выпить, а может, и пары глотков достаточно. Неизвестно же, что за трава, и в какой пропорции к молоку её варили, и сколько времени, да и вообще – как её правильно варить? А действовать начинает не сразу, минут двадцать кажется, что ничего нет, видно мало, хапаешь ещё – и перебор.
Мне просто хотелось принять участие в тусовке. Мы спустились пониже и прямо среди леса на склоне кое-как развели костёрчик, котелок над которым по очереди держали на палке, сидя на корточках. Мафи бесцеремонно позаимствовал у Умки и второй котелок, чтоб отжимать отвар. Конечный продукт получился вязким, как охлаждённый кисель, а на вкус это молочко всегда просто тошнотворно. Мы выпили по полстакана и стали ожидать, покуривая и рассказывая, как кого когда-то пёрло.
Так ничего и не дождавшись, допили остатки, и я пошёл вниз – может, успею ещё на завершение Олиного выступления?
Но не прошёл я и километра по дороге, как встретился с возвращающейся толпой. Они шумно обрадовались мне. Приятно, когда тебе радуются. Казалось бы – чего им радоваться? Конечно, им просто нужен повод порадоваться, а я удачно попался навстречу – только ни о чём таком не думаешь, а просто приятно. Может, это одно из чувств, ради которых выходят на сцену? А может – что-то недополученное в детстве? Худенькая невзрачная Оля, никто ей не радуется, она серьёзная и скучная, смотрит из угла, как брызжет остроумием очередная душа компании. И вот – тыща человек безумствуют в зале, выкликая её имя. Она их не знает, но все они знают и любят её. Но её ли? С теми, кого она знает, она всё та же, замкнутая и сторонящаяся. Ей хватает любви тех, кого она не знает.
Олину гитару нёс Пенькин.
- Ну как, уже выпил? – увидев меня, спросила Оля.
- С чего ты взяла? Ты же слышишь – никакого запаха.
- Значит, накурился?
- Хорошо бы, да где взять…
Она была воодушевлена успехом, окружена свитой, а я опять растерянно оправдывался. По ночной испанской дороге движется процессия с факелами и королевой во главе, и навстречу попадается деревенский дурачок.
Я поплёлся следом. Живот начала крутить сильная резь. Ну и молочко, кайфа никакого, а живот разболелся. Я стал по-йоговски гонять свой пресс.
Чтоб спокойно пёрнуть, я чуть поотстал. Мне было грустно. В такой вот тёплый вечер погулять бы с герлой, прижимаясь друг к другу в непроглядном мраке тропинок, слушая тревожных цикад, замереть среди окружающей во мраке жизни, войти друг в друга не кусочком тела, но всем незримым существом своим перелиться в чужую оболочку… или на берегу посидеть, потосковать под начинающей ущербляться луной, а потом отчаянно ласкать друг друга, жгуче тоскуя от контраста между жаркими, но так быстро проходящими ласками и холодным вечным светом той любви, что никогда не достижима. И лучше бы это была заурядная глупенькая тусовочная девочка, а не исполненная своей важности Оля. То есть я понимаю – я должен заслужить, чтобы она по отношению ко мне, избранному, забыла о своей важности и мне одному, только мне открылась – но мне лень. Мне не хочется заслуживать, мне хочется, чтобы мне поверили такому, какой я есть – просто поверить и всё. И именно Олю мне меньше всего хотелось бы «добиваться», потому что добиться – это наебалово, победа в поединке, личное достижение. А судьба – свершится и без моих усилий, не в этой, так в следующей жизни. С Умкой у меня было ощущение, что эта судьба уже когда-то свершалась, а с Олей – что не может не свершиться, что с точки зрения тральфамадорцев одно и то же.
Однако, и никакие другие герлы на сегодня не светили, и мне было грустно, что зря пропадают такая луна и такие цикады.
У Пеньковского костра не оказалось рюкзака Мишелек. Расспросив ребят – я так и не запомнил никого из их компании, кроме Пенькина и его сподвижника по «Сверхсрочникам» Кукарямбы, похожего на Леннона в 69-м, остальные стеснялись, я тоже, у меня был комплекс, что они такие юные и свежие, а у них наоборот, что я опытный и заслуженный (раз вместе с Олей), - я выяснил, что рюкзак забрали сами Мишельки и пошли ночевать куда-то в гору. Под предлогом мусоров, а на самом деле – чтоб сладко посупружничать. На мой вкус, с герлой, ежедневно встречаемой уже десять лет, совсем не то, что с незнакомкой, но по портвейну тоже ништяк.
В кострище дотлевали последние угли. Все как бы пили чай, то есть тёплую водичку из котелка, пить-то никому не хотелось, просто посидеть после сэйшена, это как молча полежать после оргазма. Петь тоже уже никому ничего не хотелось, хотя Гаврила, вняв настойчивым умолениям Оли, спел своего «Чёрного ворона», но тоже вяло. Если продолжать эротические аналогии, то ночные песни у костра – это как ласки незнакомых и уже стосковавшихся по любви, а порой даже – как групняк впервые в таком составе; а проведённый сэйшен – это как добросовестно исполненный супружеский долг, с оргазмом во всей полноте, гарантированным и предсказуемым, но от других исполнений неотличимым, ничем особенным не запоминающимся. А вот когда сама ситуация интересная, необычная – так там даже и не до оргазма, там оргазм – досадный конец сказочки. Кстати, не вижу, чем сношение в неизменном постоянном составе отличается от онанизма. Это всё равно как в тысячный раз рассказывать тот же анекдот. Впрочем, молитву, бывает, и больше раз повторяют…
Я не стал делиться своими аллегориями, чтоб не приняли за маньяка. Я сидел притихший, даже Оля удивилась – она уже и забыла, что и в начале знакомства я был таким же затаившимся.
- По-моему, ты всё-таки чем-то раскумарился, - проницательно сказала она. – Только от этой штуки ты наоборот в себя уходишь. Может, колёсами кто-то угостил? Я вообще заметила, что у некоторых людей есть талант попадать на всякие такие раздачи. («Опять о Славике Индейце, что ли?»)
- Ах, мне бы их таланты, - вздыхал я. – Вон колесо-то какое, - и я кивал печально на диск луны среди деревьев.
- Да… - Оля взглянула на луну, - новая фаза…
Я переночевал один на берегу прямо возле лагеря скаутов. Никто не отвлекал, и я сочинил стишок Оле на прощанье. Кто угодно мог прийти ко мне на берег, любая анархистка. Но никто не пришёл, разумеется.
11. Прощай, детка
В наш последний с Олей день я на весь день уехал кататься с Умкой.
- Умка, - сказал я, - машина зря простаивает, можно куда-нибудь прокатиться.
Умка обрадовалась! Лёху с больной ногой хоть покатать напоследок. Без Вовы, понятное дело, тоже никак, так что Мишельки не умещаются (бензин в баке, залитый на их деньги, ещё остался – примечание выдаёт во мне лишённого способностей апостола: так и не смог изжить поганых мыслей о насущном, о том, откуда что берётся у просветлённых).
Когда мы проезжали через Симеиз, нам встретились Оля с Мышей и прочими ребятами. Умка попросила тормознуться, чтобы что-то с ними перетереть. Хотел я было пригласить Олю на свободное место… удачный случай – последняя возможность избавиться от непременного Мыши, для него места не было, причём это получалось само собой. Но ведь если б она захотела, она бы сама легко от него избавилась… избавлялась уже, сколько ж ещё можно? толку-то… Так я и не решился, продолжал крутить тривиальное кино «на твоём месте везу Умку».
А тут ещё Умка решила захватить с собой, чтоб ничего уж даром не пропадало, какого-то видного тусовщика из Прибалтики Алекса.
Кроме того она решила, раз уж так покатило, заехать заодно в Форос, чтоб кого-то там повидать.
На Байдарском перевале мы оставили раненого Лёху в машине и полезли на гору. Умка сразу ускакала вперёд, а Алекс с Орским карабкались неторопливо и с перекурами. Я без колебаний последовал за Умкой – конечно, маловероятно, что ей вдруг захочется побратать нас с Вовой, но если вдруг всё же такая мысль придёт ей в голову, то это было бы знамением.
Я нагнал её только на самой вершине. Усевшись на самом краю обрыва в лотос, она мычала «Ом-м-м-м-м…», или рычала, а ещё точнее – гудела. Только сейчас я понял, что не мопед это жужжал утром в горах, а была это её утренняя гимнастика. (Это не метафора, я серьёзно думал, что мопед).
Я уселся метрах в десяти от Умки, кое-как завернул ноги в лотос и стал так же гудеть. Местами получалось не хуже.
Гребень, на который мы взобрались, как и все крымские горы, резко обрывался на юг, а на север плавно спускался в долину, где виднелись деревня, ставок, шнурки дорог и дальше снова горы. Мне было радостно, что и Умка всё это видит, хотя, конечно, она в своих странствиях должна была повидать и кое-что покруче.
На гребень взобрались Вова с Алексом, а следом за ними – приковылял раненый Лёха! Бесцельно потусовавшись и пофотографировавшись, мы стали спускаться.
В Форосе Умка прошлась по базару и констатировала, что все цены выше, чем в Симеизе (вот как действует реклама: кто угодно узнал слово «Форос» после того, как Мишу там путчило; хорошо хоть паханы не добрались до Трахкранкурта, тьфу-тьфу-тьфу, Джа, помилуй). Бедная Умочка – пожалуй, она одна изо всей её возвышенной тусовки имела представление о ценах. Судя по проявляемому ей интересу, ей очень хотелось бы персиков и помидоров, но ведь и мне – чего только не хотелось. А ни одного Мишельки в нашей компании не нашлось. Умка купила кефира и булочек на всю тусовку (кефир на самом деле сейчас тоже недёшев, зато какой символ).
Пока мы жевали, к магазину подошла та самая тусовка, которую хотела отыскать Умка – слава Джа, не пришлось тащиться на каменистый берег и разыскивать их в чахлых кустиках. Два мужика, три герлы и пятеро детишек. Один из мужиков, я так и не понял, это его или какую-то герлу звали Ромашкой, усадил нас всех и стал готовить аппарат к автосъёмке, и так бесконечно долго и разнообразно канительно он готовился, что я не выдержал и тоже автоснял на свой «Зенит», даже не знаю, зачем – ну раз уж пока всё равно все сидят. Инка, разглядывая этот снимок в Москве, прокомментировала: «О, вся синагога собралась, и Филочка-дурачок, как всегда, рядом пристроился». Как я уже говорил, не будь у меня узкого, зато глубинного в данном вопросе специалиста Инночки, самому бы мне ничего такого и в голову не пришло б.
- А, кстати, как ты относишься к евреям? – уж не помню по какому поводу, но с удивляющей прямотой спросила меня через несколько дней Умка. – Я ведь, знаешь ли, по маме еврейка.
Может, такой вопрос интересует потому, что только по маме? Надо у Инки проконсультироваться.
Я ответил так.
Восемь классов я отучился в элитной для Симфика школе, где лучшими друзьями у меня были Эйдельберг, Сигал, Брауде и, что забавно, Герасимов.
То, что в людях божественно – равно, хоть и на свой лад, божественно в любой нации. Бесовские же стороны гораздо более разнообразны, и как раз из них складывается шаблон признаков, которые принято считать национальными.
Другое дело, что к любому явлению негативного плана возможны два отношения – с юмором и с ненавистью. Это как мы с Галкой ссоримся порой чуть ли не искренне (чуть ли – поскольку обоим на каком-то самом потаённом уровне сознания всё же ясно, что всё это только шоу и не больше; дон Хуан называл такие шоу проверкой на безупречность, Коровьев проверкой на гавно – подразумевается, что дон Хуан проверяет себя, а Коровьев партнёра), а через час или день мы хохочем над своими исполненными ролями, а особенно нас веселит реакция зрителей, если таковые вдруг подвернулись.
Можно предположить, что и все национальные вопросы, равно как и войны, являются масштабными шоу, имеющими древнюю традицию. Не понял юмора, как говорит в спорных ситуациях Инкин папа. Я думаю, именно так подумал Сталин, когда Гитлер пересёк границу. (Обычно это клише произносится у московских пивных ларьков с интонацией угрозы).
И, видно, существует закон равновесия, поскольку действительно, чем более нация богата талантами, тем больше у неё неприятных окружающим черт, чертей. Точно так же любой мало-мальски даже и не талантливый, а просто неординарный и потому интересный человек всегда, если говорить на искусственном языке культуры, с пунктиком, а если сказать, как есть – в чём-то, хоть в каком-то нюансе обязательно гавнистый. А часто и в прямой пропорции: чем более неординарный – тем более и гандонит. И наоборот – те, кого по религии можно было бы назвать праведниками, во всём всегда для всех хорошие люди – как правило, не обладают никакими иными талантами. Они самодостаточны, и один из признаков праведности в том, что они, даже если и могут, не хотели бы выделяться, они слишком скромно оценивают себя по сравнению с рекордсменами в любой сфере (и наоборот, популярности можно достигнуть только при достаточно низком уровне самокритики). Те, кто во всём и всегда хорошие, чаще всего никому ничем не интересны. Кто интересней – кот Бегемот или Левий Матвей? И тем не менее каким-то парадоксальным образом для всех нас столь же аксиоматично, как материализм, понятие о том, что положительно – это следовать примеру Левия Матвея и никаких шоу.
Ещё могу добавить, что никакая другая нация не умеет так смеяться над своими национальными особенностями, и уже этим они велики.
И лучше бы не мусолить национальные вопросы, а задуматься о самой большой лично для каждого и для всех в совокупности проблеме – ну почему же мы теряем иногда чувство юмора? Впрочем, не для каждого – многие потеряли его уже навсегда, а кое-кто никогда его не имел.
Может быть, Иегова просто проверял Иова на чувство юмора? И после каждой проверки досадовал: нет, хоть тресни – знай себе молится, ничем не проймёшь, бесчувственный чурбан!
По блатной терминологии, Иегова разводил Иова.
Как и на Мангупе, моё пребывание в Форосе смущали мысли о брошенной без присмотра Кобыле. Когда мы вернулись к ней, я в который раз за эти две недели испытал болезненную радость от того, что она стоит, как стояла. Хотя и выражался уже пару раз по пьянке в том смысле, что она нужна была мне только для того, чтоб покатать Олю, после чего можно считать, что она УЖЕ себя оправдала. Однако, Оля вот уезжает, а жизнь продолжается, и машина может ещё пригодиться.
Салон раскалился почти нестерпимо, мы сразу открыли два окна, открывавшиеся в моей старушке – водительское и по диагонали, правое заднее. И понеслись с ветерком.
Вечером Оля предложила моему вниманию новую идею.
За все эти дни мы умудрились так ни разу и не обсудить перспективы и дальнейшие планы. При этом безо всяких обсуждений как-то само собой стало ясно, что на Кавказ они едут одни. Мишельки ехать туда что-то уже расхотели, якобы Элеоноре уже скоро надо ехать за Гийкой, а они хотели бы ещё вдвоём пооттягиваться в Судаке. Очевидно, Мишель ностальгировал по тому времени, когда был студентом (я-то только недавно перестал им быть), и мы во время нашего с ним автостопа ночевали в Судаке в Генуэзской крепости. Ведь вообще-то Судак – довольно унылое местечко, не считая этой крепости, да и она вряд ли стоит усилий и средств, затраченных на дорогу. То есть если ты ездишь автостопом, тогда, конечно, неважно, куда направляться, можно и через Судак. Но специально туда добираться, чтобы потом отправиться обратно? Мишелька в то лето вообразил себя богатеньким Буратино, как позже выяснилось – без особых на то оснований. Деньги такая штука – чем больше их вырубишь, тем скорее они кончаются.
Ну а мне одному ехать с Олей и Мышей… ещё и на его территорию…
Может, мы заранее настроились с Олей на взаимную приязнь, стукнулись лбами и обломились?
Ведь ожидала же она кого-то найти во мне? Что нашла совсем другого, это ясно, а вот интересно, кого бы она хотела?
А я? Меня она в каком-то смысле обманула своими песнями – именно теми, от которых потом стала открещиваться, а я даже не осознал этого, я уже поверил. Если бы я уже услышал более ранние «Я окружаю себя забором» или «Аллилуйю»… А тут – ещё и с мотоциклом на обложке, трамвай из болта в рай.
Где-то среди болтовни я рассказал Оле сюжет своего любимого порнофильма, пропавшего со всем прочим моим имуществом, которое Коровьев, приехав из Пауково, где проходил у Иры курс молодого грибника, выкинул из окошка общаги.
У меня была вторая часть, из которой понятно, что в первой из тюрьмы бежит этакий Рембо и попадает на необитаемый остров, на котором терпят кораблекрушение шесть классных, весело ебливых герлов. В конце первой части их спасают, а он, скрываясь от правосудия, остаётся на острове тренироваться и отъедаться бананами.
Сюжет второй, моей любимой части более закрученный. Герлы узнают, что Рембо оправдали, и едут к нему на остров, но не сообщают ему новость сразу, поскольку экспедицию спонсирует безумный профессор, собирающийся использовать Рембо в поисках клада на другом острове, уже обитаемом, причём опасными индейцами, и вот как они ебутся -–это круче всего, куда там Рембо. Рембо, конечно, зрелищен, он ебёт могуче и плавно, как суперлайнер, вроде «Титаника», он неотвратим, как нордический буран, но в нём нет ничего смешного, единственное, чем он смешон, так это своей серьёзностью – простодушной ковбойской быковатостью он напоминает героев «Ключей от форта Баярд». Ну а что вытворяют оголтелые индейцы – это надо видеть. Никакой величавости – шустрая энергичность пневматических молотков. Никаких томных стонов – визги и вопли детей матери-природы.
Ну а дальше оказалось, что всё это подстава, просто группа операторов на халяву снимает все их поёбки, и индейцы – такие же актёры, как в «Маски-шоу», просто их профессор нанял, а на Рембо и герлах решил сэкономить. Герлы насилуют профессора на берегу моря под пальмами, а Рембо снимает всё это на похищенную камеру, а потом незаметно подсовывает эту кассету в общий фильм. И не печалится, что наебали с гонораром, главное – свобода, да и поебался на славу.
Вообще-то мне нравится только такая порнуха, где герлы в чулках. Но этот фильм нравится мне не как порнуха, а как сладкая сказка. Необитаемый остров, океан, бананы, герлы, индианки. Ещё бы ганджа росла – и совсем рай. И ещё неизвестно, стал ли бы я слушать там «Титаник» или Янку. Вот Боба Марли – это обязово.
А Оля признаёт дорогу в рай, судя по всему, исключительно тернистую. Как поёт Умка, «движение всё, конечная цель ничто» – это бесспорно, но движения бывают разные, а цели, о которой идёт тут речь, всё равно никто не знает. И каждый может выбирать по вкусу – в раю или в аду ему двигаться.
Прям как совдепы – зато потом будет рай. А вдруг – потоп?
Иногда мне кажется, что 85% женщин Советского Союза – Настасьи Филипповны, а остальные – Аглаи. В смысле, в бытовухе – в искусстве-то можно наворотить чего угодно, а вот по жизни…
Когда в сентябре я снова проезжал Днепр, я рассказал Парфёну свой любимый анекдот этого лета, про цацу. Парфён сразу рассказал свой любимый.
У мужика было три дочки. Настала пора выдавать их замуж. Вырезал он три стрелы. Выстрелила первая – стрела попала в казино, хозяин бандит и народный депутат. Выстрелила вторая – попала в банк, хозяин тоже депутат, а в прошлом – комсючий лидер. А у третьей стрела улетела в болота.
Пошла она её искать. И видит – сидит ляган, в зубах стрела, а на голове корона. «Вот это я удачно попала, - подумала герла, - это не то что совдеп князья из грязи, отборные отбросы. Сестрички дуры нашли себе простых охуевших гавнососов, а я царевной стану, а то и королевной.»
Целует – ни фига. Целует опять – то же самое. Целует опять – и тут ляган вынимает из рта стрелу и говорит:
- Сильно заколдован я. Поцелуем не обойдёшься. Отсосать надобно.
В общем, песни песнями, но по жизни – уж слишком разные мы с Олей, и меняться никто не собирается. И всё же я так до конца и не решил – ехать мне с Олей дальше или нет? Позвала б – поехал бы любой ценой. И тут она делает мне такое предложение.
На тусовку пришло известие, что с 25 по 27 июля в Старом Осколе проводится фест «Оскольская лира» и что организаторы якобы очень хотели бы видеть там и Умку, но не знают, как и где её искать.
Не хотелось ли бы мне побывать на этом фесте? А может, и Мишелькам интересно?
Оля уже не раз говорила мне, что Умка, исходя из своих андеграундных принципов, никак не желает раскручиваться и засвечиваться, и только благодаря её, Оли, понуканиям и движется Умкино продвижение. Куда? Ну, это само собой разумеется – нужно не только сочинять, но и тиражироваться, делать себе имя.
На самом деле, как я потом увидел, у Умки был собственный план, в котором Оля занимала своё, определённое Умкой место. Старый Оскол в этот план не вписывался – не тот масштаб. Но раз уж Оля так настаивает – почему бы и не согласиться?
Если Фил ради Оли довезёт хоть до Старого Оскола – с паршивой собаки шерсти клок, хоть полдороги до Москвы доехать ненапряжно, а там видно будет.
А я знал, что Риша Шанхай регулярно выступает на «Оскольской лире». Я уже рассказывал о ней Умке, и Умка сказала, что ей уже говорили, что есть такая воронежская Умка, только помоложе. И мне очень захотелось их познакомить – зачем? На самом деле знакомить друг с другом певиц – примерно то же, что своих любовниц. А у меня мелькнул глупый глюк (начитался утопий про всемирную взаимную любовь всех разумных человеков), что Умка как-то поможет Рише в её продвижении.
А может – просто захотелось Ришу повидать.
Я чувствовал некоторую вину перед Олей за то, что не смог её увлечь своей персоной. И чувствовал себя обязанным сделать то, что могу. Не пить, не пыхать и не интересоваться сексом – выше моих сил, но отвезти на машине Джанис Джоплин на Вудсток – разве это не то, о чём я мечтал всю жизнь? Да ещё и исполняя личную просьбу Маришки Вереш.
Стишок, посвящённый Оле, Умке я уже показал, ей очень понравилось, а Оле решил вручить перед расставанием.
Ночевал я опять в одиночестве.
С утра все по очереди, сперва Умкина тусовка, потом Пеньки, стали уговаривать Олю не уезжать. Зачем? Хуй его знает. Пеньки собирались пробыть в Крыму ещё неделю, Петя с Ксюхой ещё меньше, Гаврила вообще уже успел уехать. А куда отправится через неделю Оля, им всем было абсолютно похуй. Никто из-за неё не станет выходить из отпуска ни на день позже, даже странно такое предполагать. Предполагается, что они люди серьёзные, а Оля, равно как и Умка, распиздяйки, у которых только и дела, что развлекать тех, кто пока отдыхает.
И так добросовестно уговаривали – мол, как раз погода наладилась, самые лучшие деньки наступили, - что Оля даже засомневалась, а не отложить ли и впрямь отъезд?
Но мне-то нужно было ехать по-любому – встречать своих родичей, а потом ещё и на море их отвезти. А без меня Оле с Мышей пришлось бы тратить тридцать гривен на автобус. А сейчас бензин оплачивали Мишельки.
Они тоже хотели ехать немедленно. Заебала их эта тусовка. Если хочется увидеть Олю, можно купить билет на сэйшен, а наблюдать её в реальной жизни – это она ещё должна бы им за такое приплачивать. Забраковали они её как братушку, так же как и всех остальных – сразу видно, что тут каждый за себя, сам себя мнит талантом, а всех бесталанных считает обязанными этому таланту служить.
Филу интересно – так, может, у него работа такая. Самому Мишельке с какими только кровососами не приходится якобы дружески общаться по работе. С уголовниками – ещё ничего, у них хоть какое-то есть понятие о своей чести, а вот с торгашами…
Хотя на самом деле – это с ним общаться было для меня работой.
Впрочем, мне противно, когда называют «работой» сочинение стихов или открывание новых планет. Для меня работа – разгружать вагоны, чтоб заработать на пропитание. То, что в поте лица, а остальное – различные способы наебалова.
Было бы у меня достаточное количество денег – ещё неизвестно, нашлось ли бы для Мишелек место в экипаже. Братушка мне плохой Коровьев, а Мишелька – хороший сосед. Он аксиоматично сделает для меня всё, предусмотренное понятиями, но интересы у него свои, с моими лишь местами пересекающиеся. Он любит рокенрол, но не пожертвует для него ни дэцелом, рокенрол для него – это то, что он может позволить себе по достижении определённого уровня комфорта, блажь и слабость человека взрослого, то есть такого, для которого главное – накормить самку и детёныша. Никогда не бросит он монеты на дорогу и всегда будет хоронить своих мертвецов.
Далее, ганджа он тоже не любит так, как я, он ценит герыч, то есть чтоб достать его, он будет прикладывать усилия, а ради ганджа нет. Угостят – не откажется.
И наконец, женщин моих он не станет ебать не то что по понятиям, а просто ему это действительно неинтересно, и в этом он тоже взрослый. Взрослые даже придумали выражение «юношеская гиперсексуальность», чтоб успокоить себя, мол, всё нормально, снижение с возрастом либидо – это ничего, даже положительно, это так и должно быть, а то, что было в юности – это ненормально, это «гипер». И даже по понятиям это возвеличили: на обывательском уровне – наконец-то я нашёл женщину, которая полностью меня удовлетворила, я люблю только её и потому я хороший, положительный и надёжный; а на уровне, так сказать, продвинутом – это свидетельство просветления (и в каком-то смысле это действительно так – в том, что это первый шаг в могилу).
Рассматривать вопрос о сексуальности Христа у взрослых считается кощунственным, но само собой подразумевается, что он не только не касался головки своего отростка, но даже поллюций у него не бывало – вот настолько он был духовный. А по моим представлениям, история о том, как он накормил пятитысячную тусовку двумя хлебами и несколькими рыбинами – аллегория того, как тысячи герлов могли одновременно кончать от его вида, как на битловских сэйшенах в наше время. У взрослых свой Христос, у меня свой.
В общем, мы наметили такой план действий: я отвожу пассажиров в Симфик, дальше они едут своим маршрутом, а я разбираюсь с родичами, а потом возвращаюсь в Симеиз и везу Умку в Старый Оскол.
Туда-обратно
Оля в Симфике перед отъездом вручила мне два рублёвых стольника (35 баксов), после чего я стал считать себя просто обязанным везти Умку. Так бы ещё, может, приехал бы я в Симеиз, Умка сказала бы – а может, лучше тут позагорать ещё? и я бы согласился. Ведь что ни говори, безумие покидать море и солнце ради грязной холодной России. Конечно, красивый жест – а чё б не смотаться за тыщу с чем-то км, для чего тогда нужна машина? И дело благое – Умка споёт людям.
И всё же решающий фактор – деньги. Оля дала. Я взял. Вот такой я придурок.
Возле Гурзуфа нас тормознули – не просто мусора, но ещё и автоматчики в камуфляже. Вот как они используют доставшиеся им автоматы – так, документики… россияне? а где регистрация? Нету? Штраф по 10 гривен. Не согласны? Ну, посидите на посту, сейчас придёт машина, отвезёт вас в отделение, утром с вами разберутся, но заплатить придётся гораздо больше.
Ко мне, прописанному в Крыму, вопросов не было. Но один из автоматчиков доебался до моей банданки, украшенной надписями “Fuck you” и руками с оттопыренным пальцем. Вряд ли он смог прочесть надпись, но американский жест, аналогичный нашей дуле, он уже усвоил из видео.
- А что это у тебя на голове? Ты это кому показываешь?
- Да просто…
- Чё просто? Сними, понял? А то я сейчас сниму, вместе с патлами твоими, понял?
Пришлось снять, ну его на хуй, дебила вооружённого.
А ребята долго объясняли, что нет у них денег. Бедные музыканты. А что тут делали? В Симеизе выступали? Ну значит, заработали. Да мы бесплатно выступали, для детей, для скаутов. Ну ладно – 10 гривен за всех и езжайте.
Опять откупились всё той же кассетой. Им некогда, работы (наебалова) немеряно. Хоть что-то урвали – и ладно.
Последние часы до их поезда. Мишельки уже отбыли в Феодосию к Славику, чтоб оттуда съездить в Судак. Мы маемся у меня дома на втором этаже. Всё уже решено, мы уже расстались, но всё ещё вместе.
Я объяснил Оле с Мышей, что лучше всего доехать поездом до Керчи, дальше на пароме через пролив, а там уже до Адлера недалеко. Поезд вечером, в Керчи утром. Поездом намного дешевле, чем автобусом.
Две бумажки по сто тысяч Оля мне уже выдала: «Вот, мы посчитали – это лишнее. До Адлера нам хватит, а там должны заработать». Я пробовал было отказаться, но Оля настояла: «Это не тебе, это я Умке даю».
Расставание – прямо как развод. Ужасно грустно, чуть ли не как похороны. И ещё и имущество делить, как какое-то наследство. Оля подарила мне концертную запись «Комитета»: «Уникальная, такой больше ни у кого нету. Ну, если уж тебе так нравится… А вообще в Москве я её у тебя перепишу». Оля ужасно сожалела, что на второй стороне поверх этой уникальной записи она записала с радио передачу про себя – некогда было искать чистую кассету, сунула в мафон первую попавшуюся. В передаче, записанной, к сожалению, моно и некачественно, были три божественные песни с их не вышедшего ещё альбома. Права на него были у предоставивших студию бандитов, во всяком случае, Оля мне сказала, что у неё у самой нет этих записей, вот с радио приходится записывать. Так я потом и слушал: Олди, а потом Оля, вот только интервью с ней быстро надоело, приходилось перематывать.
А вообще-то нет – расставание грустно далеко не всегда. Наоборот, чаще всего я расстаюсь с облегчением - потусовались вместе, было ништяк, но пора и разбегаться. Всё же надо сознаться, что большинство людей меня пригружают, если общаться слишком долго. Почему, чем? Не знаю. Вот как-то напрягаешься что ли на них: они у тебя или ты у них – в гостях, нельзя расслабиться, как дома.
Бывало, что я даже танцевал и прыгал, когда удавалось наконец отделаться от какой-то герлы. А вот когда учился в Питере, возвращаясь из Москвы от Инки, пару дней просто конкретно болел. А когда входил в лифт, она оставалась на площадке, подпрыгивая и посылая мне воздушные поцелуи, двери закрывались, и в спускающемся лифте я тихонько подвывал, сжимал зубы и корчился.
Расставаться с Олей мне было невыносимо грустно. (С Мышей – не очень).
Парадокс в том, что при этом мне жалко их, а не себя. Стереотип, заложенный мамой. Всё время я уезжаю из дома в неизвестность в свою жизнь, а она остаётся одна, и мне её жалко. У меня сейчас начнутся приключения, встречи, борьба, а у неё впереди однообразное поддержание устоявшегося существования и молитвы обо мне.
То, что я испытывал при расставаниях с Инкой – стереотип потому, что она на самом деле без меня ничуть не скучала, как мне сентиментально представлялось.
Нет, я не знаю, почему мне грустно, почему мне их так жалко!
Я помню, что когда я был маленький, я иногда подолгу плакал – совершенно беспричинно. Разумеется, укрывшись от всех, это была моя тайна. И это была самая что ни на есть любовь, а к кому – неизвестно. Я знаю, что есть теории, по которым это любовь к себе – но вот не к себе, я же помню… нет, это именно тоска по кому-то ещё. И заочная жалость к нему, каким бы он ни оказался.
А может и к себе – в том смысле, что увидеть своё одиночество и испугаться. Возможно, секрет материального успеха американцев в том, что они одиночества не боятся, а наоборот декларируют его, исповедуют и упражняют. И наоборот, пресловутая русская особая духовность, кинчевское хипацкое «мы вместе» – просто детский страх признать, что ты уже сам по себе, отдельно от мамы, не говоря уж об отце. И нечего жаловаться, что никто не поможет, никто не спасёт – будь самураем. Джигитом. Ковбоем.
Мне грустно от того, что я не могу размножиться – всегда быть вместе с Инкой, и с Галинкой, и с Олей, и с Ришей. В смысле, физически. А – как там наоборот, духовно что ли? – я с ними (и не только) всегда, что и выражается, в частности, в этой самой грусти.
С кем – с ними? Ты же всех их сам придумал.
А они меня? Смею надеяться, что тоже.
Хорошо бывает выпить на прощанье. Как и при встрече – так всё сразу легко и просто.
Но Оля этого не умеет. Я знаю это по маме и по тёте – они действительно не умеют, тут дело не в принципах, их на самом деле не вставляет. Как меня не вставляет димедрол – тупеешь и всё, никаких божественных переживаний.
Вот и маемся на трезвяках. Солнце уже обошло поповский дом и косо пробилось сквозь алычу и яблоню к нам на веранду. Оля валяется на моей наре, Мыша тусуется, не может решить, то ли посидеть ещё с нами, то ли пойти в комнаты поспать. Я сижу напротив Оли в кресле и заполняю ожидание беседой о чём попало. Не молчать же. О чём бы таком поболтать, чтобы Оле было интересно? Я опять рассказываю про Ирку Ведьму, про Федьку, про Коровьева. Снова о том, как он выкинул с седьмого этажа все мои пожитки, и в связи с этим о его теории «проверки на гавно».
Мол, в каждом человеке сидит куча гавна. И как конкретное гавно из кишечника полезно вычищать иногда клизмой, точно так же нужно избавляться от гавна абстрактного. С этой целью он провоцирует людей на различные проявления гавнистости. Смог простить его выходку или высказывание – молодец, ещё ступенька вверх. Загандонился – ну вот и посмотри на себя, запоминай, может – покаешься, потом как-нибудь, наедине с самим собой.
Мыша, удалившийся спать, аж выскочил обратно на веранду:
- А ему кто дал такое право – проверять? Себя-то он кем считает?
Никого Коровьев не оставляет равнодушным. Вон как Мышу – через время и расстоянье – своей теорией проверил.
Я защищаю Коровьева:
- «Титаник» тоже нравится далеко не всем. Как и Летов, как и Лимонов. Получается, Коровьеву судить других нельзя, а тебе его можно?
- Да не сужу я никого, - отмахивается Мыша, - просто я с ним не согласен.
- Так он этого и добивается.
- Он просто хочет сказать, - вступается за Мышу Оля, - что Коровьев твой чернушник.
- Ну да, я знаю, вы любите только беленьких. А тебе не кажется, что в этом и заключается то самое гавно, на которое чёрненькие проверяют?
Тема нащупана, диспут обеспечен.
Вместо того чтоб выпить, и целоваться, и плакать.
Я довёз их до вокзала, но провожать не стал. Даже из машины не вылез: ладно, пока, ещё увидимся. Чё я хотел такое изобразить? Очень глупо, если разобраться. Просто не хотелось мне этих формальных системных обниманий. Или по-настоящему целоваться, или никак. С другими, которых я ни во что особенное не ставлю, я могу и поиграть в эти фальшивые обнимания – а с Олей не захотел, принципиально. Как маленький.
12. Доля воровская
На другой день у меня было уже намечено самостоятельное приключение. Я искал траву. Позвонил одному знакомому по этим делам – ничем помочь не может, не сезон, сам знаешь. Позвонил другому – можно организовать, но для этого надо съездить в одну деревню.
Я разобрался с крестовиной, оказалось, она в порядке, просто поперечина с подшипником болталась на одном болте, а второй провалился в проржавевшую дырку. Я подложил шайбу побольше – всего делов. Мог бы ещё в Феодосии разобраться, если бы не был так сосредоточен на Оле.
Фильку с бабушкой я встретил, ещё с ними была сестра бабушки, то есть Инкиной мамы. Отвёз их в Николаевку, там Инкина мама долго проверяла мою безупречность, всё никак не могла выбрать жильё, а потом я даже проводил их на пляж и искупался вместе с ними, на зелёном (от песка) море были волны, солнце палило.
И вот я наконец совсем один, мчусь по шоссе мимо кукурузных полей и виноградников, заливаю бензин на деньги Инкиной мамы, снова мчусь, в мафоне «Титаник», чистое небо, простор открыт, я могу ехать куда заблагорассудится, хоть на Кавказ вслед за Олей.
В Симфике я созвонился опять с Длинным, заехал за ним на Петровскую балку, и мы поехали за Лёхой, который, собственно, и был знаком с татарином, к которому мы собирались.
Возле дома Длинного я слегка изувечил передний бампер. А ведь мог просто развернуться на улице – так нет, мне зачем-то понадобилось подъехать прямо к его воротам в узкий проход между двумя газонами. Сдавая назад, я туда, назад, и смотрел, а бампер в это время зацепился за ограду газона. Сколько раз такое бывало со мной, ещё когда у меня была копейка.
Можно было бы расценить это как знамение – куда-то не туда я собрался ехать. Но ведь всё уже – едем. Остаётся отнестись к этому как к напоминанию – при всей беспечности не забывай о безупречности.
Длинный когда-то снимал часть дома в Марьино, и я свёл с ним знакомство исключительно с целью приобретения травушки. Лёху я видел впервые.
В 90-е годы та часть крымской молодёжи, которая к чему-то стремится, стала стремиться быть бандюками – так же, как раньше нацепляли джинсы и отпускали хаера. Выдающиеся разбойники стали народными героями и кумирами.
Помню, в детстве – встречаешься в другом районе Симфика со шпаной, они сразу спрашивают: «Из Марьино? А кого ты там знаешь?» – «Вялого знаю. Пёську знаю» – «А… Ну тогда ладно…». Как сейчас у неформалов: «Да я с Кинчевым вместе бухал» – «О-о-о». Так же и в политике: он с начальником мусарни бухает, или там – с братом генсека. Так везде и всегда так было. И это имеет не только очевидный смысл, но за ним скрыта и военная тайна: если ты смог забраться в мысли продвинутого в каком-то направлении деятеля, тогда не только его видимое влияние, но и просто сами его мысли о тебе способны влиять на твою судьбу. Возможно, в этом и заключается секрет того, как такое редкое добро успешно противостоит такому всеобщему злу – деятели зла своими мыслями друг о друге друг друга топят и гасят, ну и наоборот. Какое ещё на хуй добро, какое зло? Ну это так, способ попиздеть.
Оказалось, что ехать нужно гораздо дальше, чем я предполагал. Я думал, где-нибудь тут рядом, но они сказали, что километров сто, а на деле оказалось, наверно, и 150.
Перед выездом из Симфика мы тормознулись на Москольце: в гости нужно приезжать с бутылкой хорошего вина. К нам подошёл было парнишка, собирающий плату за стоянку, но они ему – пальцы веером, братан, на пару минут. Получилось.
Бесконечные прямые узкие дороги степного Крыма. Я опять гнал 120, колотил понты перед пацанами.
Вышедший растворить нам ворота длинный сутулый мужик не показался мне похожим на татарина. Да ещё и Ваня. Я далеко не сразу понял, что мы приехали к другому бывшему во дворе мужику, довольно упитанному, Бахе. Ваня просто жил у него на правах слуги. Судимый, судя по наколкам и другим признакам. Видно, некуда ему податься, вот и живёт тут тихо-тихо, такое бывает в Крыму. Баха к нему, однако, относился с совершенным уважением, потому я и не сразу разобрал, кто есть кто. И уж не знаю, татарин этот Ваня или нет, но пару раз он перебрасывался с Бахой по-татарски.
Встретили нас чрезвычайно радушно. С самого начала Баха стал проявлять ко мне повышенный интерес, и я до сих пор могу только предполагать, чем этот интерес был вызван. По сути, весь этот вечер был нашей с ним встречей, Длинный с Лёхой были статистами, а вернее – довольными шоу зрителями. Предполагаю я вот что: Длинный давно уже был заинтригован моей персоной, чего-нибудь понаплёл обо мне Лёхе – живёт то в Москве, то в Питере, рокенрольщик, Настоящий Индеец, стихи пишет… понятия не имею, кем я представляюсь Длинному, но видно, что кем-то таким особенным, если не Виктором Цоем, то где-то около того, - а Лёха, пока я колесил по Трахкранкуртам и Симеизам, успел рассказать обо мне Бахе и обещал нас познакомить.
Это в итоге у меня сложилось такое впечатление, а тогда я, конечно, ни о чём таком не подозревал. Хотя по дороге они уже предупреждали меня: это такой артист, так гонит, просто вилы, ну ты сам увидишь, если только удастся его разговорить, это пиздец, ты охуеешь с него. Я не очень-то вслушивался, чё там гонят пацаны, но в итоге так и оказалось. Только я так и не понял, зачем же я Бахе был нужен. Может, это он был нужен мне для сравнения с рокенрольными вещунами?
Для начала нас усадили во флигельке. В Крыму обычно все частные владения устроены одинаково: сразу за воротами площадка для машины, палисадничек и тут же дом, напротив него площадка, на которой летом стоят стол и стулья или скамейки, а уже в глубине двора, за домом – сарай и какой-нибудь домик, который используется только летом, и уже дальше – садо-огород. В прибрежных селениях эти домики сдают курортникам, а зачем они нужны в обычных некурортных посёлках, я даже и не знаю. Может, неуютно как-то летом в капитальном душном доме? Крымчаки ведь сроду никогда не открывают форточек, в домах попроще их попросту нету, но и там, где они есть, хозяева боятся летом мух и пыли, а зимой, естественно, холода, отопленье денег стоит.
Флигельки эти в большинстве случаев мало отличаются от сарая, разве что подметено. Но у Бахи и свежепобелено было, и ковёр висел – хозяин.
Курим, осматриваемся, молчаливая незаметная татарская жена принесла чаю. Пока мы попивали, Баха уже приколотил и позвал нас на улицу курнуть.
Ничего так ганджик оказался. Баха приглядывался ко мне – может, ожидал, что меня сразу накроет, или как там называется, чё там бывает? Бывает, но только по знамению.
- Может, сразу ещё приколотим? – предложил я ему. – Всё же на пятерых…
Ваня тем временем точил нож.
Нас усадили за стол во дворе. На столе – нарды (настоящая большая расписная доска), чай, пиалы, конфеты, папиросы и блюдце с шишками. «Заколачивай, как посчитаешь нужным», - широким жестом предложил мне Баха. Я и стал заколачивать. Пацаны были в восторге.
Ваня с Бахой стали тем временем резать барашка. То есть прирезали они его очень быстро, я даже как-то и не заметил, пока заколачивал, зато потом разделывали его часа, наверно, два, у нас на глазах, познавательное зрелище. Жена тем временем то чай принесёт, то кофе, то опять чай. К тому времени, как с бараном покончили, солнце уже село.
Над столом включили лампочку, и жена вскоре принесла нам большую сковородку с жареным мясом. Ничего особенного, просто поджарено с какими-то специями, гвоздь программы – почки, сердце и печень, ну и просто куски жирной мякоти. Я уж думал, шашлык там будет какой-нибудь или плов – нет, просто поджаренная свежатина.
А дальше Баха действительно устроил настоящее шоу, которое я не берусь описать. Ну, прогонял нам какие-то свои теории, и дело не столько в сути их, сколько в артистизме исполнения – интонации, движения, жесты. Обращался он то лично ко мне, то ко всем, как к пастве, то вообще к небесам. А суть теории примерно такая: он понял, что каждый может сам быть аллахом, если захочет, а он, Баха, призван всем это объяснить. Чтобы тоже что-то сказать, я пытался было рассказать ему про «Чужого в стране чужих» (или хоть про Ричарда Баху), но потом увидел, что говорить ничего не нужно, от нас требуется только внимать.
- Ты видишь, какая луна? – возбуждённо спрашивал меня Баха, когда мы отошли с ним поссать куда-то в огород, в заросли конопли. – Это я её такой сделал, чтобы у нас всё было сегодня хорошо. Нет, ты видишь? Ты понимаешь теперь? Я специально привёл тебя сюда, чтобы ты увидел, чтобы ты мне поверил.
Баха с коноплёй очень напоминал мне Ведьму из Паукова с её грибочками.
Ближе к утру пацаны пошли спать во флигелёк, следом за ними откланялся и я, устроился в машине, послушал ещё немного «Титаник». А Баха так и остался за столом, лампочку выключил, смотрел на звёзды и время от времени что-то бормотал.
Утром я потихоньку спросил Лёху: ну так как насчёт приобретения планчика? Баха тут вчера так распинался, мне уж даже и неудобно как-то спрашивать его о такой хуйне.
Ничего-ничего, заверил Лёха, всё нормально, на сколько ты хочешь отцепиться? – Да вот у меня двадцать баксов… - Ну давай, я всё улажу.
И принёс мне где-то с полстакана – ну чё, вполне нормально. Хотя сейчас я уже думаю, что двадцатник он – естественно! – взял себе, а у Бахи просто попросил. Конечно, я, как всегда, дурак – надо было самому попросить у Бахи да и всё. Но знаете, попросишь – он насыплет на пару папирос, и что же, только ради этого ехали так далеко?
Баха всё говорил о своём проекте постройки мечети, о том, что собирается потрясти бандюков, чтоб скинулись. Вечером, пока мы сидели за столом, к нему действительно два раза приезжали на иномарках личности совершенно определённого вида, о чём-то перетирали с ним в сторонке, при этом вид у них был именно такой, будто они уважительно просят его то ли о совете, то ли о поддержке.
Баха собрался ехать с нами в Симфик для встреч с разными там авторитетами. В ближайшей деревне мы заехали на рынок – после Симфика Баха хотел навестить свою тёщу в Ялте, и в подарок ей он загрузил мне в багажник ящик отборных абрикосов, а поверх них – пучки вымытой моркови. Насколько я заметил, с торговками он не расплачивался, а общались они с ним с восторгом.
Тёщу он собирался навещать по дороге в Симеиз. Мы ведь вечером почему-то договорились с ним, что я отвезу его на свою тусовку («свою» в том смысле, что я был здесь представителем). Понятия не имею, почему это так его заинтересовало. Казалось бы -–совершенно параллельные миры, у него свои тусовки – бандюки, мечети, у нас свои – сэйшена, автостопы. Может, действительно пробило его на глобальные откровения, почуял он тягу к чему-то такому, неизвестно чему? Не знаю, очень таинственно. Почему-то он очень интересовался, что я и как – так прямо в палатках и живёте? поёте у костра? И почему-то стал напрашиваться познакомиться с моими друзьями. Конечно, можно сказать просто: крышак поехал, но уж больно это скучное и однозначное объяснение.
А я подумал – why not? Умка да и прочие от такого Бахи просто выпадут в осадок, если он выдаст им такое же шоу. Да ещё и накурит всех на халяву.
Сейчас я думаю, что Умке такое очень и очень не понравилось бы. И не таких она видела, сказала бы она, да и на хуй оно нужно. Однако прочие, не такие искушённые – прикололись бы и ещё как!
Вот только дальше что с ним делать? Об этом я не думал. Он попросту загипнотизировал меня, и я не сопротивлялся.
В Симфике я высадил Баху возле какого-то офиса, а пацанов повёз в Марьино, им нужно было туда по своим делам, а я хотел немного поспать до вечера. С Бахой мы договорились, что вечером он сам приедет ко мне домой.
На Воровского с нами случилась небольшая неприятность. Это та самая улица, на которой я впервые повредил свою копейку, врезался в бордюр там, где она вдруг сужается. На этот раз не повезло на сто метров дальше, там, где дорога уже узкая.
Едем довольно лихо, перед нами иномарка. Она вдруг ни с того, ни с сего резко тормозит. Я тоже торможу, поскольку объехать её невозможно, навстречу КАМАЗ. А только что прошёл дождик, а резина у меня почти совсем лысая. Нас несёт на встречную полосу, КАМАЗ виляет, но всё же цепляет колесом моё левое крыло.
Вышел я, посмотрел – понятно. Очень удачно – фара целая, только угол крыла промят, но это на скорость не влияет. Зато остановился в полуметре от иномарки (которая, высадив кого-то, сразу поехала дальше), а не тормозни меня КАМАЗ – точно бы въебался, и разобраться было бы не так-то просто.
Испуганный водила КАМАЗа подбежал ко мне. Ну что я ему скажу? Мусоров что ли вызывать? Так всё ясно, моя машина поперёк дороги, видно, что поцеловались мы на его полосе. Требовать с него компенсацию? За что? Я просто пожал ему руку.
Просто такое вот знамение.
Вечером только я успел прийти в себя, как в тот же момент появился Баха.
Курнули, конечно, хотя меня уже не вставляло – если курить сутки напролёт, любая трава перестаёт действовать. Даже с Памелой Андерсон на двадцатой подряд палке, думаю, были бы уже не те ощущения.
И поехали в Марьинский ресторанчик. Баха был уже выпивши и непременно хотел побывать там.
Ресторанчик этот располагается прямо впритык к пивнухе, которую раньше в народе называли «Три пескаря». Все машины стоят на площадке перед рестораном, но Баха настоял, чтоб мы заехали прямо во двор, где стояли только две иномарки, очевидно, хозяев. «Со мной ничего не бойся! Со мной можешь проезжать куда угодно!». Обработка лоха – один раз повёлся, дальше заставлять слушаться всё легче.
За двором оказалась довольно большая огороженная территория, часть прилегающей к трассе рощи. Прямо среди естественных травы и деревьев обустроены пятачки, на каждом столик под лампочкой, а между ними плитками выложены дорожки. В дальнем конце огороженного участка -–сцена, а перед ней площадка для танцев. На сцене музыканты – гитара, бас, сакс и клавиши с ритм-боксом.
Мы расположились за свободным столиком, на нас никто не обратил внимания, во всяком случае, никакой официант к нам не подошёл.
- Подожди, я сейчас, - сказал мне Баха и направился к сцене.
- Уважаемые гости! – объявил лабух. – По просьбе нашего уважаемого всеми Бахтияра, в честь его любимой тёщи исполняется… ламбада!
Баха вернулся за столик. На площадку вышли танцевать три или четыре пары. Толстые мужики в пиджаках и с золотыми цепями на шее, толстые тётки. Никакой молодёжи, никаких блядей, всё цивильно.
- Сейчас пусть они оттанцуются, а уж потом я исполню, - сказал мне Баха, протягивая косяк. – Ты увидишь. Ты всё про меня поймёшь.
Я блаженствовал. Раз Баха считает, что пыхать тут не стрёмно, то почему бы нет. Во всяком случае, у меня на кармане ничего нет, свою траву я оставил в Марьино, рассчитывая на Баху. А шоу – где я ещё такое увижу?
Над головою звёзды, а тут – эти столики с подвешенными лампочками и непостижимые дядьки и тётки из мира взрослых, которым почему-то нравится специально приезжать сюда, платить изрядные деньги за сомнительные угощения и нелепо топтаться, взвизгивая, у всех на виду. И ещё ведь при этом избранными себя полагают, допущенными.
А самое удивительное – что я нахожусь среди всего этого. Обнаружив себя в парижском ресторане или на голливудской вечеринке, я удивился бы меньше.
Незабываемо!
Музыка кончилась, удовлетворённые танцоры вернулись на свои места.
- А сейчас, – объявили со сцены, - для нашего дорогого Бахтияра мы исполним песню, которую он просил нас посвятить его гостю – Биллу из Нью-Йорка!
Баха никак не мог запомнить «Фил», всю дорогу называл меня исключительно Биллом.
Многие поглядели на наш столик. Косяк мы уже давно докурили, и я выкинул его в траву. Я прикинул, как выгляжу со стороны – хаер до плеч, тёмные очки, оборванные у колен джинсы, майка «Всё идёт по плану» с Летовым за колючей проволокой, ожерелье Олино под майкой не просматривается. По их представлениям – вполне мог потянуть на американца, кто же ещё приходит в ресторан в таком виде? Вот только – как бы не приняли нас за голубых… впрочем, похуй, конечно.
Кстати, а может и впрямь Баха просто ко мне клеился? Вообще-то я ничего такого не заметил. Но кто его знает…
Песня оказалась «Вот такая доля воровская»:
я родился ночью под забором
черти окрестили меня вором
мать родная назвала Романом – о мама джан!
и с тех пор я лажу по карманам
(Варианты рифмы: хулиганом, наркоманом и т.д. А вместо «мама джан» иногда поют «сава танэ», не знаю, что это значит и на каком языке).
И Бахтияр вышел танцевать. Джинсы на ремешке, голубенькую рубашку распирает животик. Это надо было видеть. Импровизация на восточную тему, и лезгинка, и сиртаки, и ещё что-то. И руки он разводил, и неожиданно подпрыгивал, и резко застывал в выразительной позе, и становился на одно колено, одну руку прижимая к сердцу, а другую протягивая ко мне.
Я курил и улыбался.
Когда песня кончилась, со всех столиков захлопали. Баха поднял руки, принимая аплодисменты.
- Ну, теперь ты меня понял? – спросил он, подходя к столику. – Ладно, поехали дальше, тут я тебе уже всё показал.
Дальше, впрочем, было уже скучно. Вдоль всей трассы до перевала и дальше расположилось множество современных частных кафешек. И чуть ли не в каждое заведение Баха хотел зайти, чтоб поприветствовать хозяина и опрокинуть стакашку на халяву. Он действительно знал их всех, впрочем, татары ведь, не мудрено. И чем больше он напивался, тем меньше мне нравился. Он на глазах превращался из обаятельного по-своему и артистичного пророка-философа в обычного тупого кретина, который уже не может говорить, а только кричать (крымчаки все поголовно, чуть расслабятся, начинают кричать, со стороны это может показаться грубостью и даже конфликтом, а это у них просто обычная манера общения). Никого, кроме себя, Баха уже не слышал да ещё стал давать мне советы, как вести машину.
«Н-да… - думал я. – А мне поначалу показалось, что он действительно чуть ли не Боконон. Нет, пророк не может так себя вести…» Особенно же раздражало меня то, что я поставил ему «Титаник», чтобы он поимел хоть какое-то представление о том, куда мы едем, а он, конечно, ничего не слышал и только перекрикивал божественную Олю своими окончательными бреднями.
Мы доехали до Ялты, и он стал искать дом своей тёщи. Сворачивай сюда, теперь сюда, теперь сюда… сюда нельзя, говорю, знак запрещающий. Езжай, со мной всё можно! Нет уж, лучше я как-нибудь объеду.
Опять кружим, он опять указывает дорогу, я предлагаю спросить у кого-нибудь, но он наотрез отказывается, потому что сам всё прекрасно помнит.
Когда мы оказались в третий раз на том же месте, я уже не мог сдерживаться:
- Блядь, да ты заебал уже! Вон люди – я пойду спрошу.
Название улицы он уже мне сказал. Парочка средних лет легко объяснила мне, куда ехать, но когда я вернулся к машине, Бахи там уже не было. Надо же, обиделся! Я вспомнил, что когда я вылезал из машины, он что-то такое говорил насмерть обиженным тоном, а я просто не придал значения. Потому что на самом деле я уже был в ужасе, что собирался привезти такое чучело на тусовку, и только диву давался, что это за затмение на меня нашло. Ещё бы братьев своих прихватил для комплекта или папу Инкиного.
Кое-как я выбрался из Ялты на какую-то ведущую из города дорогу: то ли нижнюю, то ли верхнюю? там, кажется, ещё и средняя есть… И после этого блукал по серпантинам часа, наверно, три. То этот серпантин ведёт в нужном направлении, то разворачивается, ты думаешь – ничего, сейчас снова повернёт, куда нужно, а всё никак. То кажется, что ты поднимаешься, а дорога вдруг раз – и начинает спускаться. Кругом тёмный лес, фары светят максимум до ближайшего поворота.
«Алупка» – прочитал я вдруг на указателе. Ага, Симеиз уже где-то рядом! Это, очевидно, спуск с трассы к Алупке, значит, нужно подняться на трассу и ехать до спуска с Симеизу.
И дальше я поехал по неведомым дорогам, которыми, судя по всему, сейчас мало пользуются. Пару раз дорога становилась вдруг грунтовой, а в одном месте от дороги по причине оползня осталось меньше половины, я даже испугался – а вдруг как раз подо мною обвалится дальше, вот это знамение будет от Бахи! Но не возвращаться же.
Трассы всё никак не было. Или я просто не заметил её? Наконец фары высветили табличку «Голубой залив». Я сверился по карте и увидел, что Симеиз остался далеко позади и внизу.
После этого я его нашёл всё же.
Поставил машину возле скаутов и расположился в ней на ночлег.
На следующее лето я случайно встретил в Марьино Лёху. Мы с Пашей стояли у столика возле распивочной точки, Лёха проходил мимо. Я его не узнал, но он мне напомнил.
Он рассказал, что Баху кто-то огрел железным прутом по голове, и с тех пор он погнал гусей конкретно. То прятался в подвале, ожидая конца света, то пришёл как-то раз с топором к соседу – убей меня, заруби. А когда сосед отказался, Баха рассвирепел и стал гоняться за ним и его женой по огороду. Его никуда не сдают, жалеют пока. А Длинного недавно закрыли, под следствием, вооружённые ограбления.
Через неделю закрыли и Лёху. Правда, вскоре выпустили.
Абрикосы и морковка тусовщикам очень понравились.
13. Для бешеной собаки
Вот ведь какая интересная штука получается, - вдруг дошло до меня, - я ещё никому никогда не признавался в любви».
Удивительно! Сколько стишков о любви написал, сколько рассуждал – с Джонни доверительно, на тусовке с умным видом. А впрочем, о чём я там писал и рассуждал? – в основном перефразировал навязанные стереотипы, особенно в дебатах, с Джонни-то и тем более в стишках порой всё же говорил и о том, что чувствовал на самом деле.
Нет, я говорил, конечно, девушкам о любви – но уже после. Для начала я всегда говорил: я тебя хочу, ну то есть не словами, а чадру срывая (по Есенину). Сперва потрахаться – а там, может, и любовь появится. Из благодарности, из возникшей нежности. Как в анекдоте про матросов на корабле, разгружавшихся во взятую в рейс козу: «Ребята, вам лишь бы потрахаться, а у меня к ней настоящая любовь».
В юности я даже избегал этого слова, приберегал его. Потом врубился: а почему бы и не говорить его в каждом случае, когда действительно чувствуешь что-то такое? Зачем сотворять из него кумира, из всего лишь слова? Говорить его спутнице жизни – само собой, но почему бы не любить и мимолётно? Это даже гораздо более красиво – солнечный удар (по Бунину). Спутница – понятно… и даже как-то неинтересно, потому что положено. Затем и заводят любовниц, чтоб любить вопреки. Правда, потом любовница, если постоянная, неизбежно перерастает в спутницу, и сказочке опять конец.
Со спутницей обычно то, о чём поёт Агузарова: «Мне хорошо рядом с тобой». Прекрасная песня, разве нет? Если только вы не принципиально против Агузаровой – разве не чувствуете вы, слушая эту песню, как это действительно хорошо? И не просто комфортно, уютно, а тоже с участием души. Прекрасно, что мы с тобою теперь вместе, и так хорошо, что ещё и оказались рядом.
Это когда в приподнятом настроении, а когда в грустном – мне жалко своих спутниц. В каждом конкретном случае можно и причины поискать – за что же именно жалко, но на самом деле это неважно. Кого угодно найдётся за что пожалеть, особенно если тебе самому грустно.
Всё это небезразличие и поэтому можно называть любовью. Если ты реально испытываешь божественный экстаз – так ли уж важно, как зовут твоего бога? Имена губят его, отличая от других воплощений. Если он здесь – он здесь, где-то там, под именем (или за? среди?), неуловимый аппаратурой и формулами. И так же и любовь: может быть и в благодарности, и в нежности, и в жалости, и в похоти тоже – в полный рост! Может и быть.
Но такого, как к Оле, я не испытывал ещё ни разу во взрослой (в смысле – уже не девственной) жизни. Содержание без несущей его формы. Просто любовь. Просто музыка, так и не воплощённая в акустические или хотя бы электромагнитные колебания.
Что это любовь – несомненно, и очень вероятно, что в самом своём чистом виде. И может быть, что и не к ней, а к тому, чего она касается в своих песнях – как и Дркин… или Олди…
Нет, к ней таки тоже – иначе с чего бы я сюда попёрся? Ланселот, ебиомать. Послан в странствие Прекрасной Дамой.
Так думал я, лёжа среди сосен где-то в предместьях Старого Оскола.
Остальные были уже усыплены – добровольно пивом и принудительно Умкой. На следующий день у Мишельки был бёсдник, формально с 12-ти, вот мы и решили, что это хороший повод, а вино в этом самом Осколе в такое время купить было уже невозможно. Едва мы добрались до ближайшего лесочка, Умка, вы уже догадались, понудила Вову-гада ставить её любимую палатку. Она пива не пьёт, и музыку врубать вряд ли стоит. Потом, уже из палатки, она крикнула нам, что и говорить можно было бы потише. Говорить и в самом деле было не о чем.
На фест мы таки опоздали.
Должен он был начинаться в пятницу, проснулся я в Симеизе в среду. Но оказалось, что только в четверг уезжают Петя с Ксюхой, и Умка собиралась отправить с ними раненого Лёху, чтоб добираться до Москвы налегке. На день раньше запланированного ребятам ехать не было никакого резона – одну только Олю волновало, попадёт ли Умка на фест. Да и почему б ей не уехать раньше – если ей это нужно? Ну а она не могла думать ни о каком фесте, пока не посадит Лёху в поезд. Впрочем, сажал его я – это она мне доверила.
На тусовку как раз приехали две новые герлы, так что уговорить меня остаться ещё на денёк было не сложно. Договорились, что с утра я везу ребят в Симфик, Умка со слоном уже не помещаются, а поэтому следуют за нами автостопом.
Появились они только уже в темноте. Умка сразу набросилась на меня с извинениями: ты знаешь, Фил, у нас осталось уже только 10 баксов, это как, ничего? Так хотелось последний раз покупаться, а потом – куда уж по темноте ехать стопом? А ты ведь нас ждёшь, вот мы и решили добираться автобусом.
Понятно. После тусовочных голяков – Умка варила на всех какие-то овощи, картофан там, свёклу, и только этим они в Симеизе и питались, безо всяких календарных постов – так хочется хоть раз в жизни ништячков, чебурек там, пивка… Вове, во всяком случае.
Ладно, дальше как – прям сразу в Феодосию или по утряне?
Сперва решили остаться. Но Умка сразу стала примеряться, куда бы ей поставить у меня в огороде палатку. Как я ни объяснял, что если на веранде открыть все окна (90% площади стен), будет то же самое, что и на улице – Умка ни в какую. Только в палатке!!!
Ну его в пизду, поехали тогда уж сразу в Феодосию.
В Феодосии у Славика Умка всё равно поставила палатку – прямо на балконе. Овен. Ладно, будет хоть что вспомнить.
Балкон у Славика длинный, то есть правильно это называется – лоджия. Архитекторы зачем-то – южный вариант? – устроили на нём нишу за счёт комнаты. В этой нише Славик поставил кровать, поверх неё постелил фанерные щиты, а на них войлок и одеяла. Вот на этой кровати Умка и водрузила палатку.
Действительно, зачем бухать, если по полнейшей трезвяни такие задвиги?
Утром Умка, в отличие от Оли, не стала ломаться, а прямо уселась с гитарой к микрофону и велела Славику включать запись. Это у неё отработано – заплатить за ночлег, за гостеприимство, за завтрак. За себя и за Вову.
Пела она изумительно. Может, я сужу пристрастно, но мне кажется, что таких её записей я больше не встречал.[16] На концертах – там всё же надрыв, а в студии – сухо и официально. А квартирники некачественно записаны.
Правда, Славик обламывал – спешил на работу. Вот же баран! (тоже Овен, кстати). На записи даже слышно, как Умка говорит: «Можно я ещё спою? Есть у тебя ещё время?» Впрочем, позже я узнал, что это обычная её присказка на всех сэйшенах.
Дальше Умка предложила съездить сперва на море, искупаться в последний раз, а потом уж ехать. Пришлось так и делать: мы-то вернёмся, а она – уже насовсем в Москву. В первый день феста там всё равно делать нечего, убеждала нас Умка, самое интересное бывает только в последний, а уж до воскресенья мы всяко доберёмся.
Славчик упиздил на службу, а мы съездили в Орджо. Я насобирал мидий, вернувшись на флэт, приготовили их – заправиться перед дорогой.
Когда выехали, солнце клонилось к закату. Как я ни гнал, где-то под Запорожьем пришлось заночевать. Умка, конечно, заставила Вову ставить палатку в лесополосе. Мы с Мишельками спали под звёздами.
Гнал я и весь следующий день, 110-120. Несмотря ни на что я хотел успеть – раз уж ввязались во всё это, Крым бросили. Больше двухсот км нам пришлось проехать лишних. Я ехал в ту сторону в первый раз в жизни и понятия не имел, что не доезжая Красногорска дорога раздваивается – со старого шоссе можно свернуть на относительно новую (годов 80-х?) автостраду, с которой километров через сто нужно возвращаться на ту же старую дорогу.
То есть об автостраде я знал, но не знал, где на неё поворот. Умка в это время как раз заснула, а я так и ехал прямо – Красногорск вдруг какой-то… Там нас к тому же тормознула похоронная процессия, с полчаса пришлось тащиться за ней еле-еле. Летим дальше, подъезжаем к тому месту, где старая дорога пересекается с автострадой – я сворачиваю на неё и несусь, пока она не кончается, спускаюсь на шоссе – и опять Красногорск! Лишних 10 гривен на бензин и пару лишних часов.
Был и ещё один крюк, поменьше. После Новомосковска мы остановились в подходящем живописном месте, чтоб воздать должное купленным в нём Мишелькой колбасе, салу и пиву. Ребята пили пиво, я заколотил папиросу. Едем дальше, и километров через 30 я вспоминаю, что мои босоножки остались на обочине пикника. Когда мы вернулись за ними, рядом с ними были также и Вовины.
А ещё мы останавливались купаться в тинистой речке.
Я успокаивал Умку – всё нормально, я по гороскопу Собака, и поэтому тыща километров для меня не крюк. Ещё я по какому-то поводу болтал, что собираюсь прожить не меньше ста лет, здоровьем своим хвастался – всё это потом прозвучало в песне «Для бешеной собаки». Умка уверяла всех, что ко мне это не имеет никакого отношения, просто они с Вовой после Оскола сели не на ту машину и совершили какой-то там крюк, и вот об этом она и сочинила песню. А «прик в кармане брюк» – это ведь явно про меня? Нет, просто для рифмы. Ну-ну.
Когда мы въехали – этого не может быть! – в Старый Оскол, начинало смеркаться. Оставалось выяснить, куда теперь ехать дальше.
Разумеется, никто из прохожих понятия не имел ни о каком фестивале. Наконец нам попалась стайка девиц и объяснили, что «Оскольская лира» проходит за городом в каком-то пансионате. Километров 5 от города, сказали они, но оказалось все 15 или больше.
Пансионат с вечереющими холодеющими заброшенными аллеями напомнил мне «Гадких лебедей» Стругацких. С большим трудом удалось разыскать там живого человека, который подтвердил, что да, раньше фест проходил здесь, но в этом году решено провести его на главной площади города.
В город мы возвращались уже в полной темноте. Я чудом в последний миг объехал внезапно возникшую опору моста.
Новые расспросы, и наконец – центр, и площадь, и действительно освещённая сцена, музыка, шум, огни, толпа, вот это да!
Пробиваемся через толпу – на сцене Лариса Долина…
Вот что выяснилось. Фестиваль – был таки, но всего один день, вчера. Отцы города уговорили Долину выступить с каким-то благотворительным концертом, а уж устроители феста подсуетились попользоваться той же площадкой. И народу вчера было куда как меньше – так, пара хипаков. А сегодня и вовсе ни одного тусовщика в городе уже не осталось.
Умка всю дорогу твердила на разные лады, какие ништяки ждут нас: нам бы только добраться, а уж там будет немеряно любых кайфушек, и напоят, и накурят, и герлы любые на выбор, сами проситься будут. Насчёт герлов Элеоноре, похоже, не очень нравилось.
Я нежно люблю бедную умненькую и одинокую Умочку – но зачем она отнеслась ко мне, как к случайно тормознутому туповатому драйверу? Ведь кто сидел, тот знает – это самые что ни на есть зоновские примочки: вот выйдем на волю, я тебе прям всё! а пока дай докурить. Ну, вы ведь помните, с кем вместе Христа распинали?
И все истории, что она рассказывала мне по дороге: то её чуть не изнасиловали, то изнасиловали таки, то наоборот – осыпали на халяву ништяками. Всё это так напоминало рассказы зэков друг другу в камере про свою вольную жизнь. И всё с контекстом: бывают драйверы пидарасы, а бывает – и нормальные попадаются люди.
И её обещания запросто организовать мне в Москве публикацию моих стихов: «Сама я, правда, разуверилась уже в этом… в необходимости публиковаться… но если ты считаешь, что тебе нужно, то давай, легко». А я ведь даже поверил.
Странно, что мне никак не засыпалось. Когда на площади мы нашли место для машины, до нас сразу докопались мусора: кто такие, откуда и куда? Да вот привезли артистку, она тут петь должна. – Хм… артистку? а ну-ка дыхни (это ко мне). Так… А чего так шатаешься? Обдолбанный что ли? За меня вступается Мишелька: человек от самого Крыма за рулём! – Так вы из Крыма?! Певицу привезли? Нет, ты точно наркоман.
В общем, причины быть усталым у меня были – но не спалось.
Сбылась мечта – я еду вместе с лидером, рупором, легендой советского движения хиппи. Самая-самая, number one. Да и Вова соответствует. И проехать вместе тыщу км – всё же покруче, чем просто на пляже полялякать. Умка совершенно правильно напоминает: «движение – всё, конечная цель – ничто».
Лежим на ковре цветочной поляны и нас окружают стены – сосны великаны. Впрочем, сосны были и в Симеизе…
Едва мы пересекли границу, нарисованную долбанными перестойщиками – контраст просто ударил по глазам! Веселенькие беленые хатки – и унылые грязно-серые избы. Там в каждой деревеньке развалы красного, жёлтого, зелёного, оранжевого, помидоры, персики, абрики, баклажаны – а тут только картошка, да и то редко… Морошка…
Заморочила Оленька, заслала. По-моему, я всё же признался ей в любви, просто не словами.
С утра Умка с Вовой чуть не расстались с нами по-английски, но чуток сон индейца.
Вообще-то они могли с нами ещё до Белгорода прокатиться, где мы собирались отправлять Элеонору в Орёл поездом (можно было бы и до Орла её довезти, только я не мог уже больше в этой России, ещё ведь целая зима впереди), но Умка почему-то решила добираться до Москвы через Воронеж. Как-то неудобно ей вдруг стало с нами после вчерашней Ларисы Долиной.
Как только они удалились в лес по направлению к трассе, выяснилось, что и Мишельки испытали громадное облегчение. Мишелька пока помалкивал насчёт того, как Умка перекрикивала море, а вот Элеонора сразу заинтересовалась: а где же булочки? Покупали пять, вечером их не ели, а сейчас только одна.
И по дороге до Орла я узнал много нового. Например, как в Новомосковске, когда Мишельки вернулись нагруженные к машине, Умка попросила мороженое: «Вы же хотите угощать меня пивом, а я его не пью». По этому поводу действительно возникла некоторая запара – стоянка возле рынка оказалась платной, и пока Мишелек не было, я раза три переезжал на новое место, но и там к нам снова подходили сборщики оплаты. Так что ради этого мороженого я свернул куда-то в боковую улочку и отъехал на безопасную дистанцию. Но почему бы не угостить девочку мороженым? Элеоноре тоже хотелось быть девочкой – ан жена, да ещё муж с Кавказа, где с такими вещами не шутят.
Нет, мне даже не хочется повторять больше никаких подробностей, скурпулёзно мне напомненных. Досталось там и Вове… Мне тоже нашлось, чем поддержать разговор – как я вёз Лёху и Умкиных друзей в Симфик. Памятуя о Гурзуфском потрошильном посту, я повёз их через Байдары – заодно узнать новую дорогу. Лучше бы я её не узнавал. На карте эта дорога от Байдарского перевала к Бахчисараю обозначена как обычная, выделена жёлтым цветом. Никаких указаний на то, что после Передового она становится грунтовой. И начинает карабкаться в гору, на карте этот перевал обозначен,
Петь может не каждый, а вот колдовать – как справедливо отмечал Гоголь, что ни баба – то и ведьма.
Хотя я не берусь указывать точно (ещё и Оля в эфире), кто именно из них заколдовал мою бедную Кобылу. Мы бросили их всех – хотя и каждую по-своему, ни в одном из случаев нельзя сказать, что прощание было таким уж душевным.
И всё же особенно в случае с Элеонорой. Мы рванулись на свободу. Впереди Днепр, Парфён, сегодня бёсдник! А Элеонору сплавили в будни: нищая мама, полунищая сестра, родственники алкоголики, Расея.
И вот опять летим. Уже и Харьков позади, снова эта автострада, весело обгоняем степенных чайников – и вдруг какой-то стук под капотом. Остановились. Что стучит – непонятно, а ехать-то надо, и ехать вроде можно, даже, если разогнаться, не так уж вроде и стучит…
И вот километров за 20 до Новомосковска это случилось. Опять обгоняем чайников – и вдруг взрыв! и дым из-под капота!
Как только я поднял его, сразу увидел, что непоправимо – в движке сквозная дыра, - и сразу поднял руку, и сразу остановился грузовик. Потом уже, когда в первый раз лопнул трос, а он и не заметил, мы целый час пытались голосовать – никто и внимания не обратил. А он вернулся!
Такой вот мужик попался. Классический хохол, из деревни под Харьковом, дома говорит по-украински, но с нами общался по-русски. Ночью, когда остановились передохнуть, он позвал нас погреться в кабину, накормил жареным домашним кроликом и куриными котлетами – у нас ведь даже хлеба не было. И сигаретами поделился, «Примой». Прямо Умкина история про ништяки автостопа. Я подарил ему всё ту же кассету с концертом «Титаника».
Погреться было действительно насущным. Когда движок взорвался, вовсю светило солнце. Но уже когда в первый раз лопнул трос, моросило, а к ночи разыгралась буря. Из-под колёс грузовика грязь так и летела, аккумулятор сел уже окончательно, и мне приходилось то и дело протирать ветровое стекло, высовываясь в окно, а Мишелька страховал руль. А уж как я, не отрываясь от руля, с помощью Мишельки натягивал свитер – ведь даже посигналить нечем нашему спасителю, прёт себе и прёт, правда, потихоньку.
Ещё одно знамение заключалось в том, что мы не так уж его и тормозили – его грузовик, постарше нашей старушки, просто от природы не умел ездить быстрее 50-ти км/час. Только в горку он без нас, возможно, взбирался бы быстрее, а с нами под конец подъёма он двигался со скоростью пешехода. Трасса между Новомосковском и Запорожьем – сплошные горки.
Взорвался движок в 4 дня, в Симфике мы были в 2 дня следующего. Где-то когда ещё было темно, Мишелька подменил меня на пару часов. Мы поменялись местами на ходу, передавая друг другу руль и, главное, педаль тормоза.
Второй раз трос лопнул за сто метров до Чонгарского поста, мусора на посту и обратили внимание нашего благодетеля на то, что он кого-то потерял. Благодаря комичности ситуации мы проехали этот самый серьёзный пост без проблем (а то Олины кассеты у меня уже кончились).
В последний раз трос лопнул на въезде в Симфик на площади Московской, оттуда мы на троллейбусе доехали до Марьино и рекрутировали Фрэда с его древним ухоженным «Москвичом».
При чём тут колдовство? Просто масло надо менять, особенно если гоняешь 120. Это да, теперь я уже об этом знаю. Но почему это случилось не раньше и не позже?
Зарядили дожди. Элеонору мы дожидались пять дней, вдвоём, без машины в Симеиз что-то не тянуло. И зачем я только говорил такое – мол, без Оли мне машина не так уж и нужна?
Инку с Филькой мне пришлось бросить с Мишельками, Мильёшками и потом Максами, и ехать на поклон к Галиной маме. Баксов в триста обошлось ей всё это мероприятие – вот, кстати, какова себестоимость Умкиной «Бешеной собаки». С Инкой и Филькой я ещё повидался на вокзале – их поезд уходил из Симфика через час после прибытия моего. Я был нагружен блоком цилиндров и прочим железом.
С Олей мне ещё предстояли встречи в снежной Москве. Особенно с Умкой.
P.S. Не время любить
А вообще я врубился, что был случайным персонажем в её романе. Её роман был с Индейцем… и вдруг – кто-то, нагло заявляющий, что он не просто Индеец, а Настоящий. Ну, она поглядела – да, охуенный вообще-то чувак. Даже забавно – все эти игры… да и трахнуться было бы любопытно, если б не такой бестолочью оказался, но хоть трахнись, хоть нет, в итоге – всё то же. Что любовь как была, так и есть, и никуда от этого не деться. Та любовь, которая иголка в сердце. Каким бы ни был негодяем и ненастоящим – боль одна, а остальное оправа.
Я другой, потому что у меня такой, единственной, любви нет. Вернее – есть у меня такая любовь, но не одна, и никак их не сравнить и не сопоставить, и это совсем другие проблемы и кайфушки.
Олино ожерелье бесследно сгинуло в первый же вечер приезда в Крым Инки. Она привезла нам в Гурзуф разливухи из Симфика, потом все полезли ночью купаться, и только утром я обратил внимание на очередное знамение.
Ну вот и всё пока.
Может, на хуй кого-нибудь послать, как Лимон? Смысл? Уж лучше пригласить. Позвать. Вот чему мне ещё учиться и учиться.
Приложение 1.
???
Христу-то было всё ништяк
путь предначертан однозначно
тернист, конечно – ну а как
зато в итоге всё удачно
ты любишь петь – так что же, пой
писать – пиши, рожать – целуйся
ходи нехоженой тропой
и артистически беснуйся
ты думаешь, тебе трудней
обременённой своим даром
блистать игрой своих теней
небезвозмездно и не даром
чем тем, кто как попало жив
и сам не знает, чем заняться
на всё забив и положив
а тоже хочет целоваться
мечтает тоже опьянеть
в трансперсональной благодати
воткнуть свой сервер в вашу сеть
вот только как? молчит Создатель
ништяк быть Ленноном, Христом
жаль Герострата и Иуду
и скучно быть простым скотом
бессильно ожидая чуда
© PHIL, июнь 97
Приложение 2.
JJL
а у Фила в жопе шило
шилопутный он водила
он со штангой пляшет танго
спит вдвоём с машиной милой
буги-вуги на фрамуге
тачка воет от натуги
от печали и тоски
он везёт брызговики
чтоб свистя, как соловьи
их показывать ГАИ
есть в багажнике заначка
листового чаю пачка
чтоб курить не натощак
а чифиру вдарив бак
вместо штрафа он втирает
всем ментам «Дорогу к раю»
в Симфе он почти москвич
заезжает под «кирпич»
а начальнику ГАИ
гонит, что, мол, мы свои
что почти что громадяне
только послабей мозгами
кирпича от первача
не профачим сгоряча
в Днепропетре от Парфёна
прётся как от самогона
и под песню «Жёлтый дом»
залетает в ментодром
но ему по барабану
подпоясавшись карданом
на хребтине крестовину
волочит свою машину
что-то в ней всегда не так
«Сплин» сказал, что это фак
что-то в ней всегда стучит
«Сплин» сказал, что это шит
тащит, не жалея сил
вот такой он, этот Фил!
в Симфе здание одно
вору золотое дно
то, что Фил заносит в двери
всё уходит сквозь окно!
а у Фила телесы
неизведанной красы
нет на шкуре пуле-дуре
белой точки под трусы
увлекаясь натуризмом
не забудьте и про клизмы
в мире лучше темы нету
на фуршете у поэта!
мать – столбóвая дворянка
а сыночек вышел панком
знает он, как в каталажке
вскипятить чифир рубашкой
но тюряги и сутяги
избегают даже маги
то, что Фил великий маг
видно так и без бумаг
после вмазу красным глазом
всех собак шугает сразу © Оля Алтуфьева, 97-98
Приложение 3.
♥♥♥
при чём тут музыка, вокал, слова?
молитва не в мольбе и не в борьбе
душа – не сердце и не голова
бог – не на небе, он в самой тебе
но хоть ты лоб в поклонах расшибёшь
хоть, как концлагерь, высохнешь в постах
того, что не понять, ты не поймёшь
и не вдохнёшь свой дух в звенящий прах
рецептов много – ЛСД, грибы
тюрьма, тусовка, море, монастырь
но если только о себе мольбы
тогда – что Амстердам, что Анадырь
рецепты все – для тех, кто не влюблён
кто любит правду, логику и счёт
кто думает, что важен только он
не видит бога в ком-нибудь ещё
и где найти индейца для тебя
чтоб наконец-то сбилась ты с ума
чтобы опять молила ты, любя
чтоб снова треснула твоя тюрьма
18.07.97, пятница, Симеиз.
О мате-батюшке
Приложение 4.
Я не говорю о том, хорошо или плохо употреблять мат – это дело вкуса. Я хочу только сказать, что стремление к употреблению его в русской литературе – вполне естественно.
Мне и моим друзьям такая идея пришла в голову сразу же после школы. Мы были ещё совершенно, как принято выражаться, невинны и неиспорченны, то есть были закодированы и зазомбированы в той же степени, что и любые выпускники тех знойно-застойных лет, даже в большей степени, поскольку окончили спецшколу.
Всю жизнь нам давали читать только избранную русскую и советскую литературу, за иностранной мы следили только по «Иностранке». Ни о каких Лимонове, Алешковском, Ерофееве мы и слыхом не слыхивали.
А о сексе мы знали только теоретически и очень мало, только я имел первый опыт, Мильён же с Наркоманом были девственниками.
В простой школе Мильёна звали бы просто сокращённо от фамилии: Емеля. Но в спецшколы собирались ученики с большим диапазоном фантазии, так же как и с более ясными прозападными настроениями. Простой ученик интуитивно тоже тянулся тогда к джинсам и магнитофонам, но у него это чаще всего так и оставалось на уровне вещизма. Для интеллектуалов же джинсы были не менее, чем святым флагом, и они осознавали многозначительный факт того, что школа и СМИ единогласно утверждают, что Битлз и Роллинги – это плохо, но мы-то ощущаем всеми органами восприятия, что это… просто ништяк!… просто невъебенно!… что Битлз – прекрасны и божественны, а все поголовно члены правительства и руководители партии – самодовольные и туповатые бесформенные мешки костей и жира. Макаревич в Москве уже пел про битву с дураками, в Крыму его ещё не слышали, но думали и чувствовали то же самое: довелось же нам родиться в Стране Дураков.
Естественным, и вполне, было бы предположить, что запрет употребления мата – просто очередной маразм рулящих дураков, а может наоборот – очередное одурачивание рулевыми дураков-иванушек. Пытались же они уверить даже, что мясо вредно, сахар яд, сало-масло западло. А уж всё кайфовое духовно они объявляли чуждым нам и тем паче. И сексу, говорили, нет места в нашей стране, а мы попробовали – ништяк оказалось…
Итак, Мильён. Его внешний вид был таким, каким рисовался нам в те годы идеальный хипак. Худощавый и сутулый, тонкие кривые ноги. Молодёжь Симфика в те годы считала необходимым особым образом кривить ноги. Молодым людям полагалось прогуливаться по Пушкарю, обязательно загибая носки ботинок внутрь (руки нужно было засовывать в карманы пиджака, прижимая локти к телу и пошире разводя кистями карманы), выражая таким образом свою независимость и праздность. Стояли же, упершись на одну слегка согнутую ногу, а вторую искривлённо выставив вперёд таким образом, чтобы линии, проведённые через ступни от пяток к носкам, пересекались под прямым углом. У Мильёна они были даже под тупым углом, причём он не специально старался, как большинство, а таким уродился.
Причудливая хипацкая изогнутость его ног подчёркивалась штанами – не только джинсы, но даже школьная форма была у него в форме дудочек. Впрочем, для торжественных случаев у него был и «дитрих» – понятия не имею, почему, в Симфике (нигде больше не слышал) так называли клеша в форме колоколов, расширяющихся сразу от талии, которые носили все мальчики и девочки. В магазинах такого не бывало, шили только на заказ, рублей 10-20 за пошив. Цифра ширины внизу составляла предмет гордости, у Мильёна были, наверно, сантиметров 60.
Ещё он носил, как и полагалось тогда в Симфике, огромные замшевые ширококруглоносые шузы и ярко-жёлтые или ярко-красные носки (более скромные, но тоже модные люди носили непременно одноцветные носки, но бежевые или синие; экзотичным считалось иметь сиреневые).
Года за 3 – за 4 до этого все соревновались в яркости цветочных переплетений на узко приталенных рубашках, но в тот год уже полагалось носить так называемую «лапшу», особой искусственной вязки как бы футболки, ярко-одноцветные, чаще всего лимонные или канареечные.
Сверху тем, у кого не было джинсовой куртки, полагалось носить блайзер – своеобразный широкий пиджак в пёструю клетку. У меня была тогда подаренная сестрой настоящая замшевая, а у Мильёши – белая, сделанная под джинсовую, финская, кажется.
Мильён писал наивные нежные стихи и рисовал романтические картины. Ещё мы с ним вместе писали фантастические романы про наших одноклассников, главными героями были всегда Миль и Фил, ни одного так и не закончили.
Странные это были годы! Такого не было больше никогда ни до, ни после. Все ПОГОЛОВНО молодые люди тогда «хипповали», а именно: носили длинные волосы, латаные джинсы и слушали магнитофоны. Прежде чем снова поступать в МГУ, я проучился год в керосинке на специальности «бурение». В моей группе были и производственники, парни, отслужившие армию и поработавшие на буровой. Любой, побывавший в армии, представлялся нам тогда законченным кретином. Их интересовали уже не любовь, а семья, не работа, а заработок. Духовная отдушина – только водка, но и напивались они на редкость скучно. И при всём при этом – у всех были длинные волосы! Это выглядело, как если бы пенсионерки и ветеранусы носили ирокезы и железные цепи.
А танцевали ВСЕ тогда под “Deep purple”, “Cream”, “Black Sabbath” – сейчас такое кажется невероятным.
Правда, как раз в тот год в Москве и через год-два на периферии появились “Bony M.” и Donna Summer. И постепенно длинные волосы остались только у убеждённых, и музыкой перестали интересоваться все подряд.
Первым вопросом при любом знакомстве был вопрос, какая нравится музыка, и ответ давал исчерпывающую характеристику. Мне нравились “Shocking blue” и “Credence”, но на вопрос о любимой группе я отвечал “Led zeppelin”, хоть и слушал всего три альбома, а запомнил только одну песню из первого и две из третьего, во второй же никак не мог въехать. Я врубился, что так отвечать – круче всего, говори “Led zeppelin” – не ошибёшься.
Мильёша уверенно отвечал: “Uriah Heep”. Он любил на уроке от нечего делать рисовать аннотации их альбомов (названия и порядок песен он, конечно, помнил), он нарисовал их на своей майке, он неистово и преданно любил каждого из них.
Я тоже очень их любил. Но я заметил, что предпочитают их люди слишком романтичные и женственные. Наоборот, люди слишком прагматичные и мужланистые больше всего любили «Дипапал» (я сперва думал, что это одно слово). А самые умные и развитые, я заметил, выбирали «Цепеллинов», ну я и косил под такого. (А про «Юрай хип» я сперва думал: хипаки, что ли? а почему Юра?).
Из новостей мы интересовались только музыкальными, с них начинался любой разговор при встрече. В то лето мы узнали о новой группе – “Queen”, “Night at the opera”. Ещё событием года был “Wish you were here”. Мало у кого было тогда стерео, Мильёну посчастливилось послушать через наушники с «Аккорда» и он делился со мною: «Ты знаешь, что я всегда считал, что лучше группы, чем «Юрай Хип», быть не может. Я и сейчас так думаю, если слушать моно. Но если слушать стерео, «Пинк Флойд», возможно, лучше…» Он тогда для сравнения слушал свежий “Wonderworld” – пластинку у «Хипа» действительно не очень интересную.
Мы с Милем посвятили то лето абитуре, оба не поступили, но главное – сам процесс. Главное – знакомство с клёвыми ребятами, которые только и поступают в МГУ. Мы очень подружились с девочками из Курска: Ирен тоже не поступила на филфак, а Гапа – на био. Мы посадили их со слезами и поцелуями на самолёт в Быково, потусовались ещё в Москве – я держался в общаге до последнего, - а потом поехали к ним в гости в Курск. На вокзале мы встретили Наркомана, только что приехавшего продолжать учёбу на мехмате МГУ, напились с ним пива и увлекли его за собой, я отдал ему свой билет, а сам добрался зайцем (высаживали дважды).
Никто из нас никогда не пробовал никаких наркотиков (кроме алкоголя, широко говоря). Хотя они и вписывались непременным атрибутом в образ рокенрола и интриговали наше воображение: например, Мильён подходил к группе школьников, грызущих семечки, и просил: «Дайте и мне немножко героина», и все были в восторге от его прикола. Или он писал мне в письме: «Фил, немедленно бросай письмо и скорее беги на улицу – у твоих дверей стоят две подводы с марихуаной». Но в реальности ничего подобного у нас просто не было, и никто не учил нас, где взять (не то что сейчас – рекламируется во всех СМИ якобы борцами якобы против).
Наркомана прозвали так просто за его примечательную внешность. Он был выше меня на голову, но легче килограмм на 20, бедро его было толщиной с мой бицепс. На тонкой длинной шее была забавная голова, лукаво поблёскивающая стёклами огромных дешёвых очков. Волосы были настолько мягкими и тонкими, что в школе он умудрялся так зачёсывать их, что никто из преподавателей и не подозревал об их реальной длине. (В нашей спецшколе завуч – взрослый нормальный человек? совковая сучара! – то и дело устраивала облавы: утром у входа проверяла у всех длину над воротником и над ушами и кое-кого просто не допускала до занятий. Приходилось идти в кино, а потом всё-таки стричься. Опасаясь парикмахерш, многие из которых были явными садюгами и стригли так коротко, что потом слёзы наворачивались, когда пощупаешь, - мы сами стригли друг друга, а иногда просто зализывались уксусом, такое помогало до следующей проверки). За первый курс Нарком отпустил волосы до плеч, и они всегда болтались у него в виде тонких сосулек. Когда он мыл голову, они распушались, но через два часа опять превращались в жирные сосульки.
Носил Нарком советский джинсовый костюм, украшенный заплатками из настоящей трущейся джинсни. Страна наша ну никак не могла освоить производство джинсов, которые бы тёрлись. Такие, настоящие фирменные, можно было купить на «туче» (барахолке) рублей за 100, а у кого таких денег не было, покупали по блату в магазине нетрущиеся индийские или болгарские подделки, а в самом худшем и дешёвом случае – советские, впрочем, существовали способы подкраски и подкрахмаливания для имитации плотности коттона.
У Нарка не было отца, только мама на советской зарплате, да ещё младший брат.
У него было блестящее чувство юмора, неистощимая жизнерадостность и сильный, на лету ловящий и мигом усваивающий ум.
Вот каким составом оказались мы в Курске.
Отношения с герлами у нас были следующие. Познакомил нас с ними наш более взрослый сосед по абитуре. Нам было по 18, ему 23, и он казался нам безнадёжным стариканом. Но носил, разумеется, джинсы, правда, перед абитурой постригся на всякий случай (а меня только из-за волос и завалили, так прямо и сказали на апелляции), он гораздо лучше нас разбирался в рок-музыке и сам что-то бряцал на гитаре – и тем не менее мы чувствовали, что он уже взросляк, что уже сдался. Его опытностью мы воспользовались для знакомства с герлами, но потом сразу бессовестно его отшили, он был чужд нам, казался глупым и скучным, нам с ним было неловко. Он отслужил в армии, и это казалось нам неизлечимым.
Но поначалу он на правах старшего приударил за Ирен, и мне ничего не оставалось, как уделить внимание Гапе. Увы, она оказалась целочкой и нипочём не давала, а мне для счастья было вполне достаточно просто провести ночь с герлой в постели, сжимая комочек её груди. Потом вышло так, что Мильён с Гапой ушли по делам и проворонили нас с Ирен, которая сама обняла меня и одарила небывалыми ощущениями. При встрече с Мильёном я прошёлся колесом – любил я тогда выражать свои чувства таким образом. Мильён стал спать на освободившемся месте с Гапой, но ему она тем более не давала. Сейчас я понимаю, что она конечно же должна была быть задета моим перебежничеством, но тогда мне это и в голову не приходило, настолько естественным казалось – спать с той, кто хочет меня. Через пару лет Гапа вышла замуж, да ещё и в партию вступила, что было уж высшей степенью измены всему, во что мы верили.
Ирен познакомила меня с Джонни, который раньше меня удостоился чести её трахнуть, став таким образом первым моим вводным братом. Через пару месяцев я встретил его в Москве и подружился на всю жизнь. Он рассказал мне, что кроме нас Ирен давала на абитуре всем, кто ни попросит, чем смутил меня и заставил задуматься над тем, что Грин учил меня одному, а например, Уленшпигель – совсем другому.
Говорю же – мы были так невинны.
Не помню, что именно мы делали в Курске. Просто жили: ходили в магазин, готовили, ели. И рассуждали обо всём, что знали и слышали. Ходили купаться на речку Сейм, по вечерам выхиливали по местному Броду. С огромным кайфом выкуривали каждую сигарету, но пить средства нам не позволяли, только раза три напивались вечером и танцевали под примитивную иреновскую моно вертушку. Под то немногое, чем баловала нас «Мелодия» – любой мой сверстник помнит эти пластинки наперечёт, пусть сейчас он давно ничего не слушает, но тогда это должен был знать каждый. Был у Ирен и один фирменный сборник, на котором интересными были только “Slade” и “Osmonds”.
Выпивают обычно для того, чтобы раскрепоститься. В Симфике, например, принято, выпив, ехать на машине на море и купаться в темноте голыми, а потом всю неделю с удовольствием вспоминать об этом.
Гапа ещё в Москве, чуть выпив, всегда предлагала:
- Чуваки, а давайте материться? Эх, ёб твою мать!
Таким образом, по её инициативе было у нас такое обычное развлечение. Правда, получалось у нас плохо, неестественно и натянуто, и только у Гапы это выходило необыкновенно мило, и я снова чувствовал, как люблю её.
В Москве же мы попробовали в первый раз практику нудизма. Напившись, мы пошли купаться на Москва реку под Ленинскими горами, естественно – голыми, но рассвет застал нас врасплох, от купания мы протрезвели и оделись, и только Мильён бегал тонкими волосатыми ножками по набережной и вопил:
- Нудизм – это прекрасно!
А мы, понятно, валялись при этом от хохота. От него я тогда и услышал впервые это слово – нудизм, и долго подозревал, что он сам же его и выдумал.
Сильны же кодировки! – больше мы тогда к нудизму не возвращались. Мы шокировали ветеранусов, рассекая по Симфику босиком с накрашенными ногтями или в разных носках. Кодировка насчёт битлов была на уровне сознания – не гипноз, а лишь несостоятельные аргументы. Но насчёт оголения… Куда уж Лёне в деле зомбации до Тургенева и прочих, охуевших от дворянства и православия корифеев, обожествлявших дух при уничижении плоти и презрении к её проявлениям – ГУЛАГ ерунда по сравнению с установками, которые они в нас заложили. Геноцид – убийство прошлого, сексуальные предписания – убийство будущего. Если уж даже все слова, связанные с продолжением рода, считаются ругательствами…
И вот как-то раз количество накопленной в любви под пьяную музыку и в умствованиях на трезвую голову энергии перешло в качество, и нас поразила мысль, что литература новой, отличной от соцреалистической (о, как мы не переваривали это слово), эпохи обязательно должна включать в себя мат. Что поскольку он уже существует, как достаточно развитый язык, он в будущем естественным образом вольётся в нормативную лексику. Ведь существуют понятия, которые просто необходимо как-то обозначить! Например, мы пользовались эвфемизмами обожаемого нами английского происхождения: хуй мы называли «прик», ебаться – «факаться», даже спряжения были с чередованием согласной, «не фачит» или «факнуть». А вот как по-английски «пизда», никто почему-то не знал, и в связи с этим возникала масса неудобств.
А между тем – как приятно называть своими именами эти, столь любимые нами, да и ими, да и всеми, вещи. На нашу жизнь, смиренно полагали мы, Страны Дураков ещё хватит, но не вечно же этому маразму длиться?
Мы не осознавали, что занимались тем, чему учили нас те, кого мы пытались отрицать – выдумыванием Светлого Будущего. В нём, были убеждены мы, будут специальные джинсовые магазины, равно как и порнографические, запросто будут продаваться любые пластинки и жвачки, можно будет читать любые книжки и смотреть любые фильмы, исповедовать любую религию и употреблять любые вещества.
И тут мы открыли –ещё можно будет материться!!!
Тотчас же мы решили начать закладывать первый кирпич в самое новое направление истинного реализма.
К сожалению, никаких собственных идей у нас на данный момент не имелось, и некогда было их вымысливать. Мы решили, однако, что неизбежно нужно будет перевести на новый язык, как со старославянского, все сокровища мировой литературы, иначе людям будущего будет скучно читать их, а то и вовсе непонятно.
Вот с этого и решили мы начать. Взяли по книжке из Иреновского шкафа: мне попался Есенин, Наркоману – «Горе от ума», Мильёну – Шекспир, а Ирен – Куприн. Гапы тогда с нами не было, но её образ светил и вдохновлял каждого из нас за работой.
Надо сказать, что ни Ирен, ни Мильёша с задачей не справились. Ирен вообще не стала читать нам то, над чем она мучалась, но позже я тайком прочёл таки – действительно, бездарно, просто после каждого второго слова «блядь» или «на хуй», да ещё так неуверенно и неумело.
Мильён же хорошо начал:
Ебать иль не ебать?
Достойно ль раком становиться
и свою жопу подставлять под стрелы?
Иль лучше выебать их всех, кто смуты мутит?
А впрочем – на хуй… лучше я посплю…
- но дальше у него что-то не пошло, хотя видно было, как много он черкал.
Нарком преуспел больше всех – обработал сценки из актов четырёх, к сожалению я мало что помню, но вот к примеру:
Ольга: Светает, ах как быстро ночь минула!
Вчера ебались до отказа,
ебать-копать, какая хаза!
Фамусов: Еблысь!
Ольга: Ой, блядь!
Фамусов: Ага!
А почему нага твоя нога?
Небось, еблась, как кошка, в эту ночь?
Ольга: Идите на хуй, папа!
Фамусов: Ну и дочь!
С хуя ли в Петербург приехал Чацкий?
Уж не к нему ли бегала ебаться?
Из другого места:
Молчалин: Подставить жопу я готов любому:
и барину, и даже управдому,
собаке дворника, чтоб ласковой была,
и даже сам себя порой ебу со зла.
А я переложил на новый язык только одно стихотворение, но довольно связно:
Ты пиздишь, что, мол, Саади
хуем тыкал твою грудь?
Ну так хуля ж старой бляди
не всадить куда-нибудь?
Ты буровишь, что на Сейме
розы – просто охуеть.
Отсосав Саади семя,
кто б не стал, как он, пиздеть?
Но я срежу на хуй розы,
одного хочу лишь я:
чтоб ты, падла, стоя в позе,
не пиздела до хуя.
Не еби мозги поэтам,
лучше сделай им миньет,
а пизду раздвинь при этом,
чтоб опизденел поэт.
В тот день мы так больше ничего и не сочинили, а потом пришла пора нам уезжать, потому что должна была вернуться из отпуска мама Ирен.
Девчонки бежали за нашим поездом босиком по перрону – почему-то мы тогда решили ехать через весь город непременно босиком. Мы-то в поезде обулись, а они свои шузы оставили дома, и так босиком их и забрали в милицию – оказалось, в этом поезде уезжали какие-то иностранцы, и девчонок обвинили в связи с ними. Поматерили их менты, поиздевались, как у них принято, в репу пару раз съездили да и отпустили среди ночи. А потом прислали письма им на работу, где только повода дожидались для единогласного остракизма. Ирен даже уволилась, а Гапа наоборот, как я уже сказал, вступила в партию.
И всё же этот опыт был для нас одноразовым шоу, как и нудизм. Материться в обыденной речи мы тогда так и не научились, и спустя десять лет я даже завидовал, как запросто матерятся юные панки, нудистом же я стал через одиннадцать. Да и то на пляжах, где нудистов много. А вот юные панки порой, мне кажется, специально стремительно заголяются на пляжах с толстозадыми отдыхающими, парализованными одними лишь их ирокезами – бедные обыватели и не подозревают, как миролюбивы и добродушны на самом деле советские панки.
Мы в свои 18 хотели быть именно такими, как они, но кроме хиппи никого ещё не было.
© PHIL, 1994
География (по главам):
1.Москва.
2.Днепр.
3.Simph.
4.Симфик – Трахкранкурт.
5.Трахкранкурт – Симфик.
6.Симфик – Феодосия.
7.Феодосия – Чуфут-Кале.
8.Мангуп.
9.Симеиз.
10.Симеиз.
11.Симеиз – Байдары –Форос – Симеиз – Симфик.
12.Симфик – Баха – Симфик – Ялта.
13.Старый Оскол.
Упоминаемые исполнители:
1. Оля.
2. Егор Летов.
3. Умка
4. Урфин Джюс.
5. «Сплин».
6. Юрий Наумов.
7. Чиж.
8. Федя.
9. Майк.
10. Парфён.
11. Риша Шанхай.
0. Олди.
-1. Shocking Blue.
-2. Credence
-3. Led Zeppelin.
-4. Uriah Heep.
-5. Deep Purple.
Лейтмотив: Удивись мне (Раста это классно) (1)
1. Она сделала шаг (1)
Всё идёт по плану (2)
2. Любовь идёт по проводам (5)
Он вылетел за ней в трубу (5)
Жёлтый дом (10)
Убаюкивая индепенденс (11)
3. Smoke on the water (-5)
Baby, I’m gonna leave you (-3)
Never marry a railroad man (-1)
Я снова у вас в гостях (4)
4. Каждый шаг через больно (1)
Джа пустит трамвай (1)
5. О Настоящем Индейце (8)
Ведь я такая цаца (1)
I’ve heard it through the grapevine (-2)
6. Такие дела (7)
Мама, я очень болен (7)
7. Сделай что-нибудь (1)
8. Гомосексуалист (3)
9. Простым солдатам рокенрола (6)
Я обманул тебя, мама (6)
Я иду по трассе (3)
10. Музыкант никому ничего не должен (3)
11. Голубочек (1)
Прощай, детка (9)
13. Для бешеной собаки (3)
Возможно: квартирник Умки в Хвеодосии
P.S. Не время любить (0)
S
Галинке – всяко и за всё.
Инке – за всестороннюю поддержку, особенно знаменательную тем, что читать меня ни той, ни другой не интересно.
Их родителям, за свободу, поднимем этот тост.
Оле – за фото на обложку, Гавриле – за проект обложки (и вообще – за очень многое), Янке и Курилову – за джинсовую идею.
Энди – за регулярную и своевременную финансовую поддержку.
Ёбси – за компутерное обеспечение.
Севе – за вдохновение.
Умке – за то, что она есть.
Вообще все прототипам.
P.P.S.
Для кого я всё это пишу? Им ведь сам Христос объяснял (и многое из того, что он говорил, реально записано) – так они даже в Нагорной Проповеди ищут компромиссов (и Бабилон их услужливо поставляет). Распять себя дай – а им хоть бы хуй по деревне. «Святое», «моё» – по любому! “Sex pistols” – и тех канонизировали. Куда уж мне? «Эдичка» – и то у них «местами ничего».
Просто не могу смолчать, как Вовочка.
Не один же я такой?
[1] Спустя год я попытался воплотить задуманное, этими же словами, и юные нацболы наваляли мне пиздюлей, эт те не Твардовский. С таким отношением к карме, думал я тогда, никакие гантели не спасут, о бодигардах понарошку и говорить нечего. Сам Лимон при близком рассмотрении напомнил мне засушенную черепаху. А хата моя спустя пару месяцев спалилась в буквальном смысле.
[2] Реальная Инка в возмущении – да как я мог такое предположить?! Я безуспешно объясняю, что не я, а персонаж, равно как и не о ней, а об одной из героинь.
[3] H-BLOCKX альбом “Time to move”, как выяснилось 19.06.01 с помощью Свиндлера, оказавшегося единственным из моих знакомых достаточно музыкально эрудированным.
[4] Или всё же «со»?
[5] Персонаж ошибается, позже он разобрался, что изготовитель украинский, из Николаева, кажется.
[6] Некрещёный персонаж ошибается. На самом деле, пост кончился , когда мы уже выезжали из Феодосии на Мангуп.
[7] Мильён неоднократно рассказывал мне потом о том, насколько мучительным было его похмелье – значит, все его разговоры о Малахове и клизмах были болтовнёй. Лично у меня никакого такого особого похмелья не было.
[8] Ярчайший пример – в 80-х полный отлёт, в 90-х – ну вообще никак, бедняга. Накормили – и всё прошло, осталась только форма, товарная.
[9] Славик Индеец рассказывал мне потом об этом огне просто невероятные вещи.
[10] H-BLOCKX
[11] Это я так вообразил. Не бывала она в Киеве на тот момент.
[12] На самом деле, оказывается, сама же хипачка и сварила, а не Умка. Это, конечно, круче.
[13] На самом деле чай – а вот тут жаль: у меня выходит интереснее.
[14] Инка говорит – как грубо, и рекомендует убрать. Но если Мыша действительно так и выразился?
[15] В 2006-м – 160.
[16] На тот период.